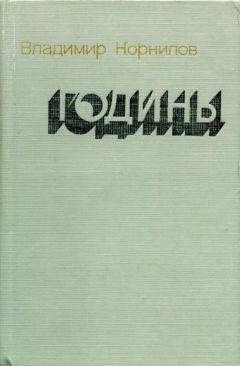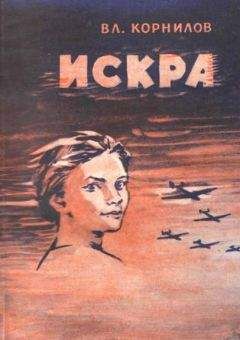Владимир Корнилов - Годины
Когда в неуютном осеннем рассвете он вылез из палатки, медленными движениями расправил занемевшее тело, мысль его возвратилась к ночному разговору. Он вспомнил, что он решил, и знал, что свое решение исполнит. Наскоро позавтракав, он пристроил на коротких, что-то медленно отрастающих волосах пилотку, расправил гимнастерку под солдатским ремнем, на котором по правому боку висела пока еще пустая кобура, — эту командирскую принадлежность он выменял у бойкого солдата за свой паек, — пальцами провел по вороту, проверяя, все ли пуговицы застегнуты как надо, подумал: «Значит, так. Вхожу в палатку, докладываю. Не забыть руку вскинуть к виску, хоть и женщина, но командир! Надо сделать по Уставу. Она скажет: „Слушаю вас…“ Тогда и говорю все, как есть. Напрямик. Так и так, мол, товарищ военврач, во взводе нарушены воинский порядок и простая человеческая справедливость. Об этом вы можете и не знать. Поэтому прошу вас… Как это ей все понравится? Не может не понравиться: ведь говорить я буду о порядке. А командир может ли быть против порядка? Сдержанно она поблагодарит и тут же вызовет старшину…»
Перед палаткой командира Алеша еще раз одернул гимнастерку, пальцем проверил звездочку на пилотке; надо было бы постучать, но в брезент не постучишь! Входная пола у палатки не была застегнута, свисала, открывая щель, и Алеша, вежливо покашляв, шагнул под просторный полог. Руку к виску, как положено по Уставу, он вскинул, но слова, которые он тщательно готовил, вдруг остановились у раскрытого рта; в осеннем полумраке палатки он увидел старшину. Адров лежал на застеленной одеялом раскладушке, закинув руки под голову, вытянутые его ноги были скрещены — сапог на сапоге. На земляном полу на коленях стояла женщина, положив голову ему на грудь; распущенные ее волосы покрывали распоясанную гимнастерку старшины, рука обнимала плечо. Женщина резко вскинула голову, и Алеша узнал своего командира.
На какое-то время он оглох; он видел побелевшее до неприятности, искаженное злобой лицо, круглые от бешенства глаза, видел, как в крике ломались и дрожали губы командира. Но не слышал. Не слышал и ничего не понимал; Он опустил стывшую у пилотки руку, незряче нащупал, отодвинул свисающий над входом полог, вышагнул на волю.
Авров окликнул его, остановил, сочувственно глядя, сказал:
— Надеюсь, теперь ты кое-что понял. Просись в другой батальон, Полянин!..
Иван Степанович ни о чем не спросил, только искоса, испытующе глянул в расстроенное лицо Алеши, взял ящик с лекарствами, ушел к своему пеньку принимать больных. Когда Алеша отлежался в палатке; с понурым видом подсев к нему, Иван Степанович сказал своей сердитой скороговоркой:
— Во-во, туда петухом, назад — мокрой курицей! Плохо было, хуже стало. Не слушаешь, понимаешь, что, говорят!
Он замолчал неожиданно, так же как начал говорить, локтем придавил крышку ящика, широкой скулой оперся на кулак. Не сразу он заметил упрямую решимость в мрачном взгляде Алеши, а когда заметил, насторожился:
— Что, что еще надумал?! Ты, понимаешь, голову для дела береги!
— А это не дело? Подлый человек среди нас, а мы… — Алеша не договорил, к ним подходил Авров, небрежно поигрывая пустым котелком.
— Сачкуете, доктора? — Старшина был доволен: и сереньким утром, и здоровьем своим, хорошим аппетитом, и тем, что шел за неограниченной порцией завтрака для себя и для своего доброго шефа, — и это полнившее его довольство жизнью и собой ясно читалось на его круглом широконосом лице, в поблескивающих, прицеливающихся глазках. Старшина сверху смотрел на них, смирно сидящих, постукивал от избытка силы котелком о колено; не дождавшись ответа, снисходя к общему их молчанию, сказал:
— Могу подбросить приятную работенку!
В том подавленном состоянии, в котором Алеша находился, он мог бы пропустить мимо себя явно насмешливые слова старшины. Но вид Аврова, вызывающее торжество, которое было в его голосе, движениях рук, в небрежном постукивании котелком о колено, показались ему оскорбительными. Он порывисто поднялся, еще не зная, что сделает. Память вынесла ему видение военного училища и, может быть, не лучший, но простой и мгновенно действующий способ, которым их ротный данной ему властью укрощал любого распоясавшегося курсанта. Он вспомнил ротного, и, встав над старшиной, закричал, почти срывая свой мальчишеский голос, криком прорезая тишину еще по-утреннему молчаливого леса:
— Старшина Авров, смир-р-р-но!
Мгновенный испуг окинул лицо старшины, руки его вытянулись, котелок застыл у колена. Еще бы секунду простоял Авров, и Алеша подал бы другую команду: «Кру-угом, арш!..» — и старшина, хотя бы на малые эти минуты, был бы посрамлен: на пронзительный крик уже выглянули из палатки девчата.
Но оцепенение тут же сошло с Аврова, он сложил на груди руки так, что висящий на локте котелок уперся Алеше, под грудь, сказал едва слышно, чтобы слова дошли только до его ушей:
— Шутишь, фельдшер! Не знаешь того, что иные шутники не доживают и до боя… — Он довернулся, расчетливо толкнув Алешу котелком, не спеша пошел к кухне, поигрывая узким сильным задом.
Под любопытствующими взглядами девчат Алеша стоял, будто настеганный крапивой. Он царапал пальцами кобуру, убеждал себя, что в эту минуту стыда и ярости мог бы — выстрелил бы в туго обтянутый штанами зад Аврова, если бы в новенькой его кобуре был пистолет, а не пара засунутых туда бинтов. Смотреть на Ивана Степановича, на весело шумящих у своей палатки девчат он не решался: он чувствовал свою правоту и в то же время с отчаянием сознавал, как по-глупому бессилен перед житейской хваткой человека, надевшего форму старшины.
Авров возвращался, бережно неся на вытянутой руке тяжелый котелок. Разговором он, видно, не удовлетворился, подошел, остановился так, чтобы Алеша видел котелок, полный каши, явно не по-солдатски залитой маслом, оглядел Ивана Степановича, по-прежнему молчаливо, по-стариковски сутуло сидящего на пеньке, укорил:
— И ты туда же. Смотри, чуваш-темнота!..
Лицо Ивана Степановича медленно краснело; кровь его как будто уже не умещалась в широком теле, растекалась к щекам, короткой шее, к словно помятому, в морщинах лбу. С неожиданной стремительностью он поднялся, ловко сдернул с ящика марлевый лоскут, перекинул через руку напободие полотенца, приклонил к плечу голову, шаркнул по земле ногой, застыл в подобострастном наклоне.
— Чего изволите-с?! — произнес он с искательной улыбкой на багрово-тяжелом от гнева лице.
Авров побледнел, отступил на шаг, повернулся, склонил голову, быстро пошел, почти побежал к палатке командира, не замечая, как выплескивается из котелка каша.
Иван Степанович опустился на пенек, вытирая марлей лицо и отдуваясь, будто после тяжелой работы, произнес в удивлении:
— Дерьмо, понимаешь!.. Не трогаешь, а вонь.
3В огромной, казалось на весь мир, ноябрьской ночи Алеша старательно кочегарил. Пламя из жерла горящей печи окидывало пляшущим светом утоптанную здесь землю, высвечивало бока свежих поленьев, разбросанную щепу, сапоги, уже крепко побитые, которые он получил еще в училище. Ноги Алеша подсунул как можно ближе к мерцающему на стылой земле отсвету огня: холод прихватывал пальцы сквозь кирзу и портянки.
В огромной трофейной бочке, вставленной внутрь глухой землянки, бушевало пламя; через железные, стенки воздух, запертый в землянке, калился до сотни градусов, в удушающей жаре ссыхалась и гибла на висящих там солдатских рубахах и гимнастерках ползучая тварь, с тараканьим упорством возрождающаяся среди житейских неудобств, тесноты и непросыхающего пота.
Еще минут двадцать — и, не притушая огня в печи, он откинет двойной полог из плащ-палаток, влезет в палящий мрак вошебойки, уклоняясь от малинового округлого свечения раскаленной бочки, на корточках, не поднимая головы в обжигающее подпотолочье, на ощупь скинет с шестов себе на руку сухую горячую одежду, придавливая ее подбородком, неуклюже выберется на волю, постоит, приходя в себя от жары, вдохнет свежий воздух ночи, сбросит поклажу на вешала. С помоста из еловых лап отберет с десяток-другой напитанных густым служивым духом рубах и гимнастерок, снова влезет в удушающий жар слепой землянки; придерживая дыхание, развесит под потолком. Под утро придет за прокаленной одеждой дежурный, раздаст строго повзводно, и сразу всем, чтобы не перемешались чистые с нечистыми, — это на совести ротных старшин, которым на каждом осмотре Алеша все дотошно втолковывал. Пятую ночь, не отлучаясь, дежурил он у этой вот, сделанней по его указаниям, вошебойки. В первые ночи вместе со смешливой, неунывающей якуточкой Ниной Яниус, которую все звали просто Яничкой, они едва успевали до общего подъема прокалить натасканные к ним груды солдатской одежды. Теперь — легче: в эту ночь он сделал лишь третью закладку. Старательную Яничку отпустил отдыхать, а сам, уже попривыкнув к ночному бдению, сидел, сторожа огонь, подкидывал время от времени в печь березовые поленья. Странное состояние души испытывал он: как будто ему, до тоскливого воя изголодавшемуся, вдруг навалили вдоволь хлеба! По-другому он не мог выразить почувствованную жадную радость от первой своей настоящей работы. Он набросился на эту Черную работу, как будто действительно она была его хлебом. Почти неделя бессонных ночей, бесконечных проверок по ротам, пререканий со взводными и старшинами, суета с дровами, бочками, чистым бельем, — все было до удушья трудным, но и в этих отчаянных трудностях он не помнил минуты, когда бы ему захотелось все бросить и отступить.