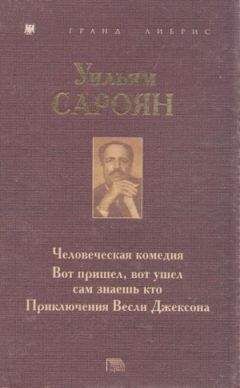Уильям Сароян - Приключения Весли Джексона
– Я услыхал, как дежурный по столовой назвал твою фамилию, – сказал он. – Что случилось?
– Самовольная отлучка.
– Кто донес на тебя?
– Вот этот капрал.
Джо посмотрел на капрала.
– Что это с тобой? – сказал он.
– Это мой долг, – ответил капрал.
Пока Джо объяснялся с капралом, я вспомнил про карточку, которую дала мне та женщина. Я достал карточку и подал ее Джо.
– Позвони по этому телефону, – сказал я. – Скажи ей, что звонишь по моему поручению, и передай, что я попал в беду, скажи – основательно.
– Ладно, – сказал Джо.
Через десять минут Джо вернулся в канцелярию, но в это время ротный командир разговаривал там с капралом, так что Джо только посмотрел на меня, кивнул и ушел. Я понял, что он ей звонил и все передал. Я просидел на скамейке до половины четвертого. В канцелярию то и дело под всяким предлогом забегали ребята, чтобы взглянуть на меня – арестованного за самовольную отлучку. В половине четвертого ротный командир вызвал меня и, когда я явился по форме, сказал:
– Возвращайтесь к своим служебным обязанностям.
Больше он ничего не сказал.
Я вернулся к своему столу, сел и сразу заснул. Немного погодя меня разбудил Джо Фоксхол и спрашивает:
– Ну, как дела?
– Ротный командир приказал мне возвратиться к служебным обязанностям. Отдай мне ту карточку.
– Ты не возражаешь, если я перепишу себе телефон и адрес?
– Ладно, только не беспокой ее зря.
– Кто она такая?
– Дама из Сан-Франциско.
– Я бывал в Сан-Франциско, – сказал Джо. – Мы живем в Бейкерсфилде, но когда я учился в Калифорнийском университете в Беркли, я каждую субботу ездил в Сан-Франциско.
– Ладно, – сказал я.
Джо переписал телефон в свою записную книжку.
Я встал и пошел в уборную побриться.
Глава 28
Весли и писатель обсуждают вопрос о сценарии про дезертира. Весли читает журнал и пишет письмо Виктору Тоска в Рочестер
Побрившись, я вернулся к своему столу, чтобы посидеть и подумать. Я решил, что мне нужно наконец кое в чем разобраться. Что это, собственно говоря, я выделываю? Вот уже больше сорока восьми часов, как я даже не прилег как следует. Пью, почти не переставая. Часами брожу по улицам, и только оттого, что услышал, как какая-то женщина поет песню, которую я знаю и люблю, – песню, которую может запеть просто так каждый встречный, – я вдруг сблизился с этой женщиной.
Отец опять сбежал – но ведь он пропадал таким же манером каждые два-три месяца все эти годы, так почему же я вдруг из-за этого тоже пустился бродяжничать? Или прав был отец, когда говорил, что я скоро стану таким же, как он? Я не мог ответить на эти вопросы, так как слишком устал. Мне казалось, что все происходит во сне, с той только разницей, что во сне я всегда знаю, что это сон и что я рано или поздно проснусь. А тут я знал, что это не сон. Но я был так утомлен и настолько не представлял себе, что я буду делать дальше, что подумал – а не является ли действительность тоже сном? А вдруг наша жизнь – это ни что иное, как сон, только более глубокий? Что, если все мы живем в каком-то общем огромном сне? Настолько реально, например, все было этой ночью, когда я жил скорее во сне, чем наяву, и все-таки, конечно, наяву? Насколько реальны были снежные улицы, где появилась эта женщина, поющая мою песню? Насколько реальна была она сама, с ее гордо посаженной круглой головкой, с ее толстенькими беленькими пальчиками, с удивительной способностью набирать телефонные номера и разговаривать вполголоса весьма деловитым тоном? Существовала ли где-нибудь на свете эта девушка с длинными рыжими волосами, ведущая какой-то непонятный для меня образ жизни? А капрал Беннет – да был ли он на самом деле? Слышал ли я этот голос, который сказал: «Вы в армии, дружище»? А этот коротышка ротный, который в столовой складывал крест-накрест под скамейкой коротенькие ножки и во время еды нетерпеливо постукивал башмаками? Был ли он реален, когда превратился в могучий глас военного закона и порядка и заявил: «Рядовому Джексону быть под арестом»? Могло ли это быть на самом деле, чтобы восемь или девять миллионов людей одной нации согнали, как скот, небольшими группами вроде нашей, где каждый все-таки стремится жить своей собственной жизнью?
Я подошел к столу писателя, чтобы позвонить по телефону. Карточка с номером телефона моей новой знакомой была у меня в кармане. Когда я хотел ее вынуть, я обнаружил в кармане сложенные листки письма, которое я написал отцу прошлой ночью. Я развернул листки, прочел первые несколько фраз, бросил листки в корзинку и позвонил своей знакомой. Я поблагодарил ее за то, что она выручила меня из беды, и она мне сказала:
– Приезжайте ко мне обедать в семь часов.
– Как зовут ту девушку с рыжими волосами?
– Зачем вам это?
Ну, я не знал, как ей объяснить – да никакого объяснения у меня не было, – просто я думал об этой девушке все время с тех пор, как ее увидел. Я не знал, что сказать.
– Не знаю, просто так, – сказал я.
– Она вам понравилась?
– Мне бы хотелось узнать, кто она такая.
– Приходите в семь часов обедать, и я вам скажу.
Я еще посидел немножко за столом писателя. Тут он вошел, неуклюже ступая, и сказал:
– Сидите, не вставайте. Вы имеете такое же право сидеть в моем кресле и за моим столом, как и я, ибо полковник только что дал мне новое задание на сценарий.
– Сколько времени в нашем распоряжении?
– Месяц.
– Я напишу его завтра.
– Нет, – сказал писатель, – давайте сделаем, как все. Давайте подумаем две-три недели – так будет легче, и таков здесь обычай.
– А о чем на этот раз?
– О дезертирстве. Полковник полагает, что это как раз в моем духе. Говорит – не бойтесь пересолить, нагоните на них чертовского страху. Советую кончить картину тем, что парня за дезертирство расстреливают.
– А кто его расстреливает?
Мне стало жалко ребят, которым придется расстреливать дезертира. Даже более жалко, чем самого дезертира. Ведь они останутся жить, а он нет, а меня, конечно, больше интересовали живые. Стоит ли много думать о человеке, который все равно умрет?
– Кто его расстреляет? – удивился писатель. – Мы с вами его расстреляем.
– Ну а по сценарию, – сказал я, – кто его расстреляет?
– Мы с вами. Вот почему я хочу хорошенько все обдумать на этот раз. Вы бы хотели его расстрелять?
– А вы?
– Нет.
– Ну и я тоже.
– А почему?
– Потому что этим дезертиром могу оказаться я сам, – сказал я. – А почему вы не хотите?
– Потому что он – это я, – отвечал писатель. – Если я когда-нибудь напишу о дезертире, я буду писать о себе самом и приложу все свое искусство, чтобы помочь ему в бегстве и доказать, что он прав, что он выше миллионов других, которые не бегут. Я сделаю его величайшим американцем в истории. – Писатель остановился, чтобы закурить. – Так или иначе, – продолжал он, – перед нами стоит очень трудная задача. Как солдаты, мы должны его убить. Как люди, мы должны доказать, что он прав. Не думаю, что можно просто сказать полковнику, будто мы – или, вернее, я – не в силах справиться с этим сюжетом. Мне кажется, полковнику любопытно кое-что выяснить; кажется, ему ужасно интересно узнать, до каких пределов цинизма могу я дойти. Если я дезертира убью, думается, что каким бы циником ни был сам полковник, однако он достаточно умен для того, чтобы понять, что я склонился перед неизбежностью и основательно покривил душой. Если же я попробую доказать, а может быть, и докажу в самом деле, что прав дезертир, а не полковник, не армия, не сильные мира сего, тогда он решит, что я сумасшедший, однако же не растленный морально субъект. Если же, наконец, я скажу, что не могу написать такого сценария, он сочтет меня трусом, человеком, лишенным мужества, и хотя последствия этого будут для меня незначительны в том, что касается моего положения в армии, но они могут оказаться весьма значительными по отношению к моей писательской карьере после войны. Итак, что же мы с вами теперь будем делать?
– Я убью дезертира за вас, – сказал я. – Он у меня ударит по лицу свою старую мать, так что всем станет противен. Я заставлю его выкручивать руки маленьким детям, чтобы вырвать монетки из их сжатых кулачков. Я убью этого сукина сына за вас, можете не волноваться.
– А зачем вам это?
– Я не хочу, чтобы это делали вы.
– Вы забываете, – сказал писатель, – что полковник будет думать, что сценарий написал я, так же как он думает, что я написал про физкультуру.
– Вы сможете открыть всем правду после войны.
– Нет, – сказал писатель. – Если я вам позволю убить дезертира, это будет все равно, что я убью его сам. Нам просто придется подумать над этим недели две-три. Или, если хотите, два-три года. Боюсь, что мне все-таки не захочется убивать дезертира, значит, мне остается надеяться только на то, что полковник вдруг свалится и умрет от разрыва сердца. Тогда, может быть, обо всем этом деле забудут.