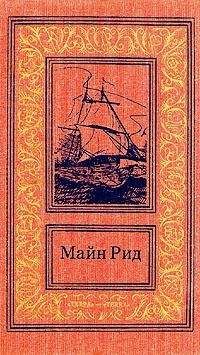Карел Птачник - Год рождения 1921
Посылки привозили на телеге Кованда и Станда Еж. Станда Еж был высокий полуслепой крестьянин в толстых очках с неуверенными движениями слепца. Несмотря на всяческую осторожность, Станда то и дело падал или стукался головой о какую-нибудь преграду, не заметив ее своими близорукими слезящимися глазами. После этого он всегда плакал, слезы горошинами текли по его заросшему, щетинистому лицу, а глаза краснели, как у больного лихорадкой.
— Не реви, дурень! — утешал его Кованда. — До свадьбы заживет!
— Да я не потому плачу, что ушиб башку, — всхлипывал Станда. — Мне обидно, что я такой слепой.
— Как же тебя взяли в Германию, раз ты ни черта не видишь?
— А они об этом спрашивали? Ты, говорят, здоровый и сильный, за четверых работать можешь.
Кованда грустно покачал головой.
— Вот сволочи, нацисты! Будь на том свете ад, гореть бы им на вечном огне. Но ада нет, так они сами его устроили на земле. А наши им помогают. Есть такие, что похуже гитлеровцев. На медицинском осмотре я сказал чешскому доктору, который нас осматривал: «Господин доктор, я старый хрен, у меня жена и четверо детей, не посылайте вы меня в Германию, мы же с вами чехи». А он, паскуда, как гаркнет: «Да как вы смеете. Я вас пошлю, если даже вы подыхаете от чахотки, будь у вас хоть пятнадцать детей — я вас все равно пошлю!» Этот доктор живет в нашем поселке, так я ему вечером высадил все стекла. Жена потом мне писала, что его дом по ночам стерегут два стражника, — уж больно часто стали выбивать у него окна. После войны мы сведем с этой сволочью счеты. Тогда нельзя будет жалеть да церемониться, сердце должно быть каменное!
Кованда ездил за провизией охотно. Он привозил из пекарни полную подводу буханок, прикрыв их брезентом, ездил на военный склад за мясом, маргарином, маслом и мукой. В качестве конвойного их обычно сопровождал унтер-офицер Миклиш, под его присмотром Кованда и Еж разгружали в школе подводу и переносили провизию в кладовую. Кованда знал сотни способов украсть буханку хлеба или пачку маргарина. Миклиш был слишком ленив, чтобы снова пересчитать в кладовой весь груз, и обычно ограничивался тем, что обшаривал карманы обоих возчиков.
— Видали мы таких! — посмеивался потом Кованда, деля между товарищами украденную еду. — Этот умник ни разу не заметил, что у самой кладовки всегда стоит мусорная корзина. Я ее каждый день выношу, а она все равно полна бумаг. У этой самой корзины я всякий раз спотыкаюсь, как иду с охапкой буханок, ну и, конечно, одна из них падает в корзину. А он, дурень, стоит у входа и следит, как я иду по коридору: мол, не свернул бы куда-нибудь Кованда, не спер бы продукты. Этого еще не хватало! За кусок жратвы я не стану терять такую хорошую работу и свое доброе имя, я его пуще всего берегу!
Пепик работал на разборке развалин, около водокачки во Фринтропе. Прежде это была тихая сельская улочка. Маленькие домики с палисадниками тянулись за город, почти в поле. Вечерами их обитатели сидели на скамейках под деревьями, курили трубки или поливали из лейки цветы. Потом рядом, в поле, расположилась крупнокалиберная зенитная батарея, всюду были поставлены жестяные звукоуловители, ощетинились пулеметные гнезда. Возможно, пенсионеры — обитатели домиков чувствовали себя в бо́льшей безопасности, когда около них гремели зенитные орудия. Но при последнем налете тяжелый американский бомбардировщик спикировал на белый глаз прожектора и сбросил на зенитчиков тяжелую бомбу. Бомба упала метрах в пятидесяти от батареи, прямехонько в зеленый садик с дорожкой и аллейкой фруктовых деревьев. Хозяина садика, герра Краузе, у которого водились лучшие вероники и дремы на всей улице, вытащили из подвала домика мертвым, так же как и его соседа — герра Кройтера, который разводил флоксии и гиацинты. В домике герра Трампиша было трое убитых, в доме вдовы Кребс — двое. Всего в этой тихой, захолустной улочке оказалось семнадцать покойников. Вся улица — пятнадцать домиков, похожих друг на друга, как две капли воды — была превращена в развалины; уцелели только подвалы.
На этой улице работало восемь чехов. Раз в день, около полудня, туда приезжал на велосипеде взмокший Гиль. Бригаде было велено извлечь из развалин как можно больше строительного материала. Ребята складывали в кучу балки и доски, оконные рамы и двери, обчищали кирпичи. Работали они только до прихода Гиля, а потом отсыпались, вознаграждая себя за бессонные ночи, а Пепик оставался на страже, сидел на развалинах крайнего домика и писал свой дневник.
Позавчера было первое мая, — записывал он. — Мне так хотелось быть рядом с тобой, моя дорогая, поцеловать тебя и подарить тебе букетик. Ведь ты так любишь цветы, а я так редко дарил их тебе.
Но вправе ли я называть тебя своей милой, вправе ли я вообще думать о тебе? Для меня ты символ непорочности и чистоты, олицетворение нежности, очарования и веры. Ты всегда несравненна и мила, а я изменился и не заслуживаю более твоей любви, она не принадлежит мне, как не принадлежит садовнику дикий шиповник.
Да, я изменился. Ибо, как иначе объяснить то, что я нарушил верность тебе? О нет, не сердцем и помыслами, которые навсегда отданы тебе, но телом, которое вдали от тебя стало слабой былинкой, жалким игралищем моей тоски и смятения.
Отчего-то — быть может, от чувства безнадежности и безутешности, — у меня сложилось представление, что тело и душа — две совершенно независимые субстанции; между ними не больше общего, чем между огнем и водой, мраком и сиянием. Это представление возникло… как следствие моего поступка и укоров совести, а отнюдь не потому, что изменились мое мировосприятие и взгляды на жизнь, которая сейчас так близка к смерти, что перестала быть настоящей. В этом главное бремя моей вины, в этом мой главный грех. Но разве я в самом деле виноват? Моя ли это вина?
Видимо, я становлюсь взрослым, видимо, становлюсь мужчиной в этой тревожной обстановке, которая и меня заставляет напряженнее мыслить и чувствовать. И все же мне кажется, что я ребенок, играющий в кубики. Я все время переставляю эти кубики, верчу их и так и этак, стараясь создать небывалые постройки, такие, чтобы они поразили и меня самого, а особенно тебя, ради кого я, собственно, — хоть и уверяю себя, что это не так! — выискиваю самые лучшие кубики, из которых, быть может, мы построим нашу совместную жизнь. Ведь все мои помыслы, мои чувства и слова, вся моя жизнь определены тобою; ты не существуешь, и все же ты моя, и только моя.
Позавчера было первое мая, и я мечтал о тебе и о любви. Совсем о другом думал мой товарищ Гонзик.
— Сегодня праздник труда, — сказал он. — Сегодня повсюду должны бы развеваться красные флаги, а улицы должны быть запружены людьми, для которых труд стал властителем судьбы, стал их единственным достоянием и мощным оружием в крепких, мозолистых руках. Они слуги труда и одновременно его хозяева; трудом они завоюют мир в те недалекие времена, что уже стоят у дверей мрачного сегодняшнего дня. Но пока что труд томится в бронированных оковах, а паук свастики держит в плену красный флаг…
Так рассуждал мой товарищ Гонзик, а я слушал его и стыдился, что сам не такой энтузиаст и не могу столь же горячо верить в правоту своего дела, обладать такой силой духа. Его слова, жесты, выражение лица не выходят у меня из памяти; я не могу не думать о нем, не могу избавиться от этих мыслей. И где-то в тайниках моей души рождается сомнение. Признаюсь ли я себе, что все здание моих убеждений шатко и зыбко, что у него нет прочной опоры? Не будет ли это трусостью? Не будет ли это изменой?
А может быть, еще трусливее упорствовать в заблуждениях, которыми доселе была полна моя вера?
Заблуждается ли Гонзик?
Что есть истина?
2
В этот день сирены завыли в неурочное время. Восемь добровольных сторожей гаража расселись в автомашинах. В открытые ворота виднелись чистое небо и звезды — такие близкие, что, казалось, их можно, как светлячков, собрать в горсть. Но вдруг в небо взметнулись лучи прожекторов, и звезды, словно оттолкнувшись от земли, ушли ввысь, как сорвавшиеся аэростаты.
Вскоре где-то вдалеке забухали зенитки. Глухая, зловещая канонада, ни на минуту не ослабевая, неудержимо приближалась к Эссену. Города железного Рура пробуждали друг друга гулкими ударами и, как эстафетный факел, передавали весть о налетающей буре. Вот откуда-то с неба посыпался фосфор, похожий на сноп искр, вырвавшихся из трубы; они медленно опустились на землю.
Ладя Плугарж первым надел стальную каску и стал в раскрытых воротах гаража.
— Ребята, — беспокойно начал он. — Не нравится мне все это. Не лучше ли уйти в подвал?