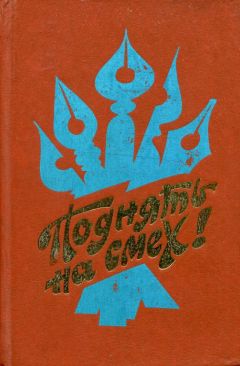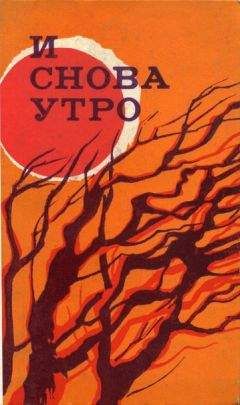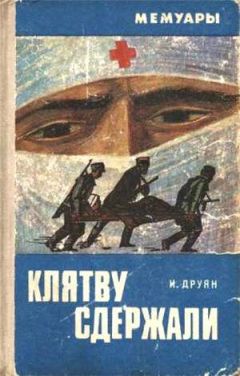Ибрагим Абдуллин - Прощай, Рим!
— А вы давно знаете, что я комиссар, господин Зепп. — Он выпрямился, развернул плечи, и всем вдруг почудилось, что Мифтахов стал выше и грознее Зеппа. — Вы меня привезли сюда, чтоб я вербовал для вашего «Легиона предателей» продажные души, но они… — Мифтахов указал на стоящих в строю, — они предпочтут виселицу, но до такой подлой низости не дойдут.
Одобрительный гул прошел среди пленных. Обер-лейтенант Зепп выхватил вороненый, ядовито поблескивающий парабеллум и, словно на стрельбище, неспешно прицелился.
Ни один нерв не дрогнул у комиссара. Будто в лицо ему смотрит не холодный стальной пистолет, который навеки оборвет его жизнь, а просто детская игрушка. От такого спокойствия Зеппа в жар бросило, мысли в мозгу спутались, и он с остервенением нажал спуск. Раздался звук, словно кто в ладошки хлопнул. Но Мифтахов и не покачнулся. Зепп еще раз выстрелил, а комиссар все стоял и как ни в чем не бывало улыбался насмешливо. Зепп заморгал, ничего не понимая. И вдруг ему показалось, что перед ним стоит сотня грозных комиссаров и смотрит на него леденящими душу глазами, в которых написан приговор ему, Зеппу. Съежился обер-лейтенант. Задрожали поджилки, задергалась щека. Вот-вот грохнется, как подкошенный, и навеки станет посмешищем для асех.
— Труффель! — Он пробормотал что-то на ухо помощнику, забежал в штаб и, обессиленный, повалился на диван.
«Не немецкий офицер ты, а теленок, патер…»
* * *Оказалось, что не суждено ему дописать свой роман. Первый и последний роман. Вот одна страница из незаконченной рукописи:
«…Для чего даются человеку ноги? Чтоб сначала он научился стоять на них без посторонней помощи, чтобы протопал вперевалку до порога, боднув лбом, растворил дверь и вышел на крыльцо… Пинком распахнул ворота, вырвался на улицу и пустился в долгое странствие. В странствие, которое будет продолжаться до последнего вздоха. Конец пути — он же конец жизни.
Для чего получает человек дар речи? Чтоб сказать „ма-ма“, чтоб, когда проголодается, попросить хлеба, по слогам выучить родной язык, молвить любимой „люблю“, а в последний час шепнуть последнее „прости“.
Для чего даются человеку руки? Чтоб тянуть их, растопырив пухлые пальчики, навстречу матери, чтоб взять лопату и копать землю, взять перо и писать стихи, чтоб перебирать клавиши, извлекая чудесную музыку, чтоб обниматься, встречаясь и расставаясь, а если нападет враг, чтобы бить врага…
Вот поэтому я люблю в человеке ноги, руки, глаза, уста, люблю человека…»
6
Трое суток пленным не давали ни крошки хлеба, ни капли воды.
Три дня, три ночи тело комиссара Мифтахова раскачивалось вниз головой на прибитом к высокому столбу поперечном брусе, где до сих пор висел обрубок рельса.
Как-то вьюжной ночью Леонид и Ильгужа сумели прокрасться сюда, но ничего поделать не смогли. Тело Мифтахова висело по меньшей мере на трехметровой высоте. Столб скользкий, не взберешься. Лестницу бы какую подтащить, но где ее достанешь? Впрочем, она бы и не помогла, столб на уровне человеческого роста ярко освещен прожектором, часовой с ближайшей вышки увидит и вмиг прошьет автоматной очередью.
* * *Наконец Зепп получил повышение. Теперь он гауптман. Капитан. Как увидит Леонид новые погоны палача, так и кажется ему, что по ним струится алая кровь.
Ильгужа тоже никак не придет в себя. Кусок в горло не идет, и сон не в сон. Ночами он потихоньку слезает с нар, садится у открытой дверцы железной печки. Языки пламени отражаются в его глазах. Смуглое, скуластое лицо блестит, будто лакированное. Губы плотно сжаты, и тягучий печальный напев колышет грудь далеким, подземным гулом, словно рокочет вода в глубокой шахте. Охапка хвороста, которую он только что подкинул в печь, разгорается нехотя, потрескивает, шипит, стреляет. Искры попадают на сложенные на коленях руки, впиваются в кожу, но Ильгужа этого не чувствует, сидит сосредоточенный, недвижный. Он занят тем, что сдерживает рвущуюся на волю песню. Хлопцы-то устали, спят… Но нет, оказывается, спят, да не все. К нему на цыпочках подходит Леонид.
— Чего полуночничаешь?
— Сон не берет.
Леонид помешивает в печке кочергой, согнутой из тонкой проволоки. Хворост опять трещит, словно бы протестует, но огонь знает свое дело — сучья полыхают, и остается от них лишь уголь, лишь пепел.
— И днем и ночью все в глазах Мифтахов стоит. Какой был человек… Пожалуй, и братьев-то своих я так не любил… Будь у нас побольше таких смелых и умных людей, мы сейчас, может, не маялись бы тут…
А вот и Иван Семенович слезает с верхотуры, тоже примащивается около на корточках. Затягивается местной махоркой, перемешанной с сухим капустным листом, — дым такой горький, что слеза прошибает не только самого куряку, но и тех, кто оказался рядом. Посидел сн, послушал и тоже вмешался в разговор:
— Я своим темным умом рассудил так. Мифтахов зря погубил свою жизнь.
— Как так зря? — Леонид резко повернулся к нему. — Брось-ка обкуривать людей, этим твоим снадобьем только мух морить. На вот, у меня махорка есть. Правда, тоже наполовину трава да солома, но все же не то, что твоя тухлая капуста.
— Как так, говоришь, зря?.. — Иван Семенович оторвал краешек газеты «Фелькишер беобахтер» и скрутил козью ножку. — Был ли какой вред немцам от бричек, которые мы перепортили, или нет, а вот хорошего человека загубили.
— Аннушка ты, Аннушка… — вздохнул Леонид с ласковым упреком. — Десять с лишком лет в колхозе работал, а все норовишь рассудить, как единоличник. И вправду, темнота! По-твоему, значит, на задних ножках стоять перед ними и под их дудочку плясать?.. За все сочтемся!
— Оно, конечно, так. Сочтемся, но комиссара-то уже не воскресишь. Ежели бы шевелились потихоньку, делали то, что они приказывают, может быть…
Леонид сердито оборвал:
— Может, может… Чего может-то? Комиссар научил нас не сгибаться, бороться и даже показал нам, как надо умирать. Видишь, как держатся теперь пленные? У всех в сердце гнев и ненависть бурлит.
Иван Семенович и сам многое понимал, как надо. Похоже, разговор он затеял именно для того, чтобы найти у товарищей поддержку своим правильным мыслям.
— Что толку, если в сердце бурлит, а огня не видать? И я в душе каждый день вот этими зубами перегрызаю горло Гитлеру.
— Надо бы сделать так, чтобы огонь вырвался наружу.
— Надо бы. А как? Научи.
— Если бы сам знал, научил бы…
Мифтахов ему частенько говаривал, с усмешкой напоминая про первый их разговор: «Береженого бог бережет». После гибели комиссара Леонид стал особенно осторожен. До конца свои планы и намерения он раскрывал только Таращенке, Ильгуже и Логунову. Конечно, и Петя Ишутин, и Коля Дрожжак, и узбек Мирза-ака — великолепнейшие люди, не проговорятся ни под какими пытками. Но конспирация — такая штука, что требует не просто мужества в роковые часы, а держится на строжайшей, ежечасной дисциплине. Живут они в таких условиях, что один необдуманный шаг — и все. Сколько потом ни геройствуй, ничегошеньки не поправишь.
Дело, начатое комиссаром за считанные часы до его смерти, продолжается. На маленькой станции очень искусно и осторожно действует группа Колесникова. А орудия, прикрытые чехлами — лишь задраны к небу черные стволы, — каждый день отправляются на фронт. Там их ждут, бережно выкатывают на позиций, заряжают смертоносными снарядами, чтоб захватчики могли погубить еще десятки и сотни наших людей. Наводят на цель, унтер гнусаво орет: «Фойер!» Расчет отскакивает назад. Но ожидаемого грохота не слышно. Снова бегут к орудию, осечка, дескать, меняют снаряд, снова орет унтер: «Огонь!» И опять молчит орудие, словно глухонемой, что не может ни других расслышать, ни сам что-нибудь сказать. В чем же дело? Долгонько возятся, пока выяснится, что замок не в порядке. Артиллеристы тогда кроют на чем свет стоит заводчиков своих, подсунувших им негодное орудие.
Зепп и его подручные следят теперь за каждым шагом пленных. Леониду, хоть и с болью сердечной, пришлось на некоторое время прекратить игру. И он видел, что не только у него болела душа — все как-то помрачнели, призадумались. Кто знает, может, как раз та пушка, которую он сейчас погружает на платформу, принесет смерть брату его родному? Эх, взорвать бы к чертовой матери весь состав! То-то было бы весело смотреть…
Когда немцы поугомонились и поверили, что им удалось сломить пленных, Леонид приказал возобновить диверсию на станции. Работа распределялась так. Десять человек вкатывают по отлогому дощатому настилу орудие на платформу и разворачивают в нужном направлении. Тем временем бывший артиллерист Петр Ишутин выдирает проволоку с пломбой, открывает и разбирает замок. На подъем и закрепление канатами, на платформе каждого орудия полагается десять минут. За этот срок Ишутину надо поставить замок на место и приладить пломбу так, чтобы комар носа не подточил. В нормальной обстановке на всю операцию десяти минут хватило бы с гаком, но здесь, когда немецкие часовые глаз не сводят, принюхиваются, кружат, как вороны над падалью, когда каждый нерв напряжен до предела, оказывается, что десять минут срок совсем небольшой.