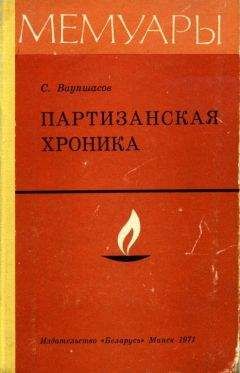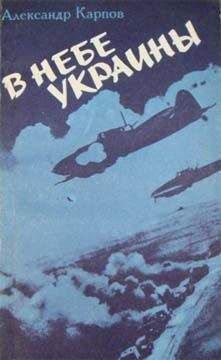Тимофей Гнедаш - Воля к жизни
— Жутковато было, Тимофей Константинович? — спрашивает Федоров.
— Да, признаться, был момент.
— А как же? А как вы думали? — участливо говорит Федоров. — Живой человек разве может остаться равнодушным в такую минуту? Тем более в первый раз. Я, когда впервые в жизни столкнулся с вооруженными немцами, сразу все мысли растерял. Смотрю — вот так шагах в десяти от меня стоит немец в плаще с автоматом. Никаких мыслей не осталось, чувствую только, волосы приподнимаются на голове и фуражка вырастает, как гриб, — смеется Федоров. — Не помню, как вынул пистолет, выстрелил три раза, не знаю уж, убил или не убил — сразу наутек. Потом уже, когда переплыл речку, сижу на том берегу, слышу отчаянную стрельбу в селе, тогда только подумал: «Вот же дураки, ведь они могли спокойно меня окружить, догнать, изловить, как зайца!» Их полное село, а я был один. С тех пор стал спокойнее, но оставаться совершенно невозмутимым — может ли это быть? А к бомбежкам с воздуха до сих пор не могу привыкнуть. Ужасно это неприятно и тяжело.
Это простое и искреннее признание командира окончательно укрепило меня, подняло мою веру в себя. Значит, чувство страха есть у каждого человека! Все дело в том, чтобы не давать хода этому чувству, не позволять ему проявляться.
Развертываем операционно-перевязочную палатку, ставим в ней железную печку. Обмываем раненых в палатке, у печурки, меняем им белье, стираем его и дезинфицируем паром в железной бочке из-под горючего.
А дожди льют и льют… Бывают у нас на юго-западе такие беспросветные погоды! Небо обложено серыми тучами, темно среди бела дня, темно! Дождь льет водяной пылью, все пронизано туманом, туман клубится, сгущается, проникает в душу.
Пробежать в такую погоду несколько кварталов, согнувшись, с поднятым воротником, или, засунув руки в рукава, стоять на трамвайной остановке — и то весьма неприятно и скучно. И вот, представьте себе, что в такую погоду вас выводят не на улицу даже, а в бесконечный лес и говорят: здесь будете жить днем и ночью.
Сначала ужас охватывает вас, а потом вы начинаете осваиваться, приспособляться, привыкать. Но увы, привыкнуть до конца, почувствовать себя в такой обстановке, как дома, и здоровому человеку невозможно. А каково же тяжелораненому?!.
Ночью в палатках стараемся уснуть, зарывшись в сено, но не спится, сырость проникает до мозга костей. Ворочаешься и так и этак, несколько раз встанешь, обойдешь возы и наконец забудешься усталым сном. Просыпаешься от дрожи, зуб на зуб не попадает. Темнота беспросветная, дождь барабанит по палатке, влажное сено прилипло к рукам, отсыревшие часы стоят. Снова обходишь раненых, светя карманным фонариком. Укутываешь им поплотнее ноги сеном и упаковочной ватой из парашютных мешков. Вдали у возов еще кто-то с карманным фонариком бродит. Это Аня и Лида в мокрых меховых шапках.
Тимофей Константинович, у Левковича ноги закоченели. Грелки остыли. Я пробовала руками оттирать, да у меня руки холодные. У щиколоток немного оттерла, а ступни никак. Который час?
Часы стали.
Хоть бы скорее утро!
Едва начинает светать, девушки разжигают костры, кипятят воду, заваривают ее лесной травой. Сахар у нас кончился, но сухари есть. И запасы колбасы на возах Георгия Ивановича кажутся неистощимыми. Трех коров повели мы с собой в рейд, привязав их к телегам. Варя и Михайловна доят коров.
Сестры ходят от воза к возу, разносят молоко и чай в эмалированных кружках. Дрожащими губами раненые приникают к кружкам, пьют горячий чай, теплое парное молоко.
Санитары несут в перевязочную первые носилки. Печурка в палатке дымит и медленно нагревается, сырые ветки в ней трещат, шипят. Бьем около печурки рука об руку, чтобы кровь прилила к пальцам и они стали подвижнее.
Снимаем повязку с первого раненого:
— Как, Шевцов, чувствуете себя?
— Мерзну здорово.
— Мерзнете? Это хорошо. Значит, есть чувствительность. А помните, каким вас принесли, как вы лежали на ветках, на земле? Тогда я думал, что вы не останетесь в живых. Пульса почти не было, кровь течет, рука перебита, а вы говорите: «Мне не больно». Вот то состояние было опасным.
Упражняйтесь, Лукьянченко. Да, конечно, и на возу. Почему на возу не упражняться? Время у вас есть. Поднимайте сначала руку на сантиметр, на два, поворачивайте кисть вправо, влево, сколько выдержите. Пусть будет больно вначале, терпите. Как же иначе?.. Рука живая, значит, будет больно.
Между телегами горят костры. Моросит дождь, мелкий, колючий. Распахнув шатры на возах, раненые подставляют под теплый воздух, идущий от костров, свои Руки, лица, всем телом тянутся к огню. Шевченко то читает вслух последний номер нашей партизанской газеты, выпущенный сегодня в лесу, то, примостившись на возу и положив на колени книгу, а на книгу лист бумаги, набросив на голову плащ-палатку, пишет под диктовку письмо. Люди пишут письма домой, уверенные, что смогут каким-то образом их отправить!
Посланные из наших далеких отрядов и здесь в лесу находят штаб Разбросанные по лесу заставы от поляны до поляны переправляют их к командованию. Там в отрядах бойцы продолжают делать свое дело.
Товарищи! — объявляет Шевченко. — Сейчас привезли донесение из отряда имени Сталина, позавчера они взорвали девяносто седьмой немецкий эшелон. К Октябрьской годовщине обязались довести счет до сотни…
Что, что такое? — поднимаются головы на дальних возах. Шевченко спешит туда с радостной новостью. Ее передают от воза к возу. Оживляются лица раненых. А дождь идет и идет.
Домой!
Переправившись через Стырь, делаем зигзаги к северу, к югу, возвращаемся назад, чтобы запутать свои следы.
В селах и деревнях, через которые мы проходим, крестьяне в великой тревоге:
— Вы уходите? Совсем? Теперь мы пропали! Немцы ограбят нас дочиста, пожгут все хаты!
Крестьяне запрягают лошадей, складывают на возы валенки, кожухи, деревянные корыта, мешки с хлебом и картофелем, привязывают коров к телегам и вслед за нами уходят в лес.
Небольшая деревушка Славково. Входим в хату погреться. Больная старуха и двое белоголовых ребятишек лежат на печи. Теленок привязан у кадки в углу. В хате пахнет дерунами — подгорелыми картофельными оладьями, кислой капустой. Безысходная нужда.
В хату заходят человек двадцать. Те, кто пришли первыми, сели на лавках и на корточках на полу, а тем, кто явились последними, сесть негде, они греются и сохнут стоя. Хозяйка приглашает:
— Проходите, там в углу есть место. Залезайте на печь, бабушка и дети подвинутся. Где же вы так вымокли, боже ж мий! Роздягайтесь, ложите одежу на пич. Зараз сварю картоплю. Куда же вы уходите от нас?
Старуха, приподнявшись на локте, пристально всматривается в каждого из нас темными, блестящими глазами:
— Як уйдете, нимцы заберуть у нас останни пожитки.
С тяжелым сердцем уходим из хаты. Хозяйка дает нам теплые печеные картофелины.
— Возьмите в дорогу. Постойте, я вам сырой сейчас принесу. Сварите где-нибудь в лесу.
Невозможно забыть взгляды, какими провожают нас женщины с малыми детьми и старики. Они не могут уйти в леса. Бабушка, третий год лежащая на печи с больными ногами, куда она пойдет? Она глядит нам вслед так, словно ее, ее одну оставляем мы здесь с немцами!
Тяжело уходить. Но ясное предчувствие — мы вернемся, и вернемся скоро!
Шевченко приносит с походной радиостанции последние сводки. Красная Армия форсировала Днепр.
Наша разведка также приносит новые вести. Собрав огромный карательный отряд, немцы остановились в нерешительности в Маневичах. По деревням ходят слухи, что партизан в лесах больше тридцати тысяч. Эти ли слухи остановили немцев или боязнь двигаться по осенней распутице, опасение потерять в бездорожье автомашины и танки?
Холодно, сыро. Наступает утро, хмурый рассвет. Раненые опять на возах под палатками, лежат завернувшись с головами в одеяла. Сестры идут вдоль возов с ведрами кипятку.
Люди кашляют, спросонок нерешительно высовывают головы из-под палаток.
Совсем светает, но туман не расходится, он словно цепляется за траву, кустарники, ветви деревьев. Сапоги Лиды, идущей вдоль возов с ведром шлепают по грязи. От ведра валит пар, сливаясь с туманом.
— Товарищи, просыпайтесь! Чай идет, чай!
Больные пьют горячую воду, немного согреваются и веселеют. Делаем перевязки, сестры несут грелки. Раненые, отогревшись, начинают разговаривать. Кто-то поет: «По-над лугом зелененьким брала вдова лен дрибненький.» Печальная, старинная песня горя и труда живо напоминает нам людей, покинутых сейчас в осиротевших волынских деревнях.
Воз Кривцова стоит рядом с возом Нюры. Между возами горит костер, дым поднимается над палатками. Михаил Васильевич и Нюра почти всегда спорят горячо и как будто сердито.
— Если человек меня хоть раз обидел, он станет для меня навеки чужим, что бы я раньше к нему ни чувствовала. Для чего же тогда быть вместе? Друг должен быть всегда другом, и в большом, и в малом — во всем. Я признаю только такие отношения. Или все, или ничего.