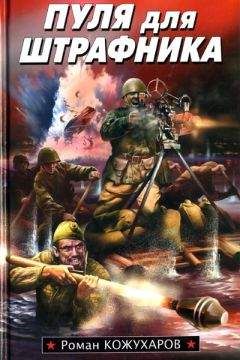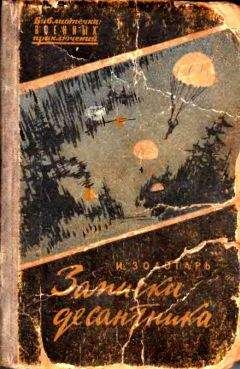Евгений Воробьев - Капля крови
— Считай — договорились. — Черемных тяжело вздохнул и прикрыл глаза. — Не нужно было из-за меня идти на жертву.
— Какая такая жертва? Пусть Гитлер свои жертвы подсчитывает. Мы ему каждую ночь на нервы действуем…
Пестряков говорил сущую правду. Но ведь когда его, Черемных, затащили в подвал, этой правды еще и в помине не было. Они тогда еще не знали, сколько смогут навредить противнику в тылу…
— Надо было вам втроем через фронт подаваться.
— А тебя куда, безногого?
— Я бы собой сам распорядился. — Черемных показал подбородком на рукоятку своего пистолета, торчащего у Пестрякова из-за отворота шинели.
— Про ту пулю забудь. Та пуля фашиста ждет-дожидается…
— Спасибо тебе, Пестряков.
— Это за что же ты благодарность мне перед строем объявил?
— За компанию.
Пестряков развел руками, сильно вылезшими из рукавов изжеванной шинели, левая рука при этом осторожно прижата в локте. И тень от простертых рук скользнула по стене черными крыльями невиданной птицы…
Несколько раз в течение этого дня, который обоим показался длиннее летнего, Пестряков вытаскивал из проема подушку и вслушивался, пытался определить, что нового в городке.
День был на редкость погожий, солнечный, и Пестряков, когда глядел в оконце, видел клочок голубого неба.
— Какая сегодня погода? — заинтересовался Черемных.
— Плохая, — буркнул Пестряков, думая о предстоящей ему ночной вылазке. — Разве тут подходящей погоды дождешься?
Черемных так и не расстался со своим первоначальным представлением и не мог вообразить себе голубое небо в этой Восточной Пруссии: ведь здесь постоянно моросит, или, как говорят у них на Южном Урале, бусит дождь. Только и распогодилось в тот вечер, когда сгорел их танк. Тогда все звезды, сколько их ни числится в строевой записке, составленной астрономами, все звезды, до самой последней, высыпали на небо…
Вот точно так же Смоленщина осталась в памяти Черемных чуть ли не южной стороной — он воевал там в знойном июне. А Литва, которую освобождали осенью, запомнилась как сторона, где, кажется, никогда не проходит бабье лето, сады всегда полны ягод и яблок, а лесные дороги не боятся дождей…
Но независимо от восприятия Черемных, которого ввел в заблуждение своим ответом Пестряков, восточнопрусское небо сегодня весело голубело и обещало звездную ночь.
Такая ночь несет известные удобства для разведчика, она помогает вести наблюдение. В ясную ночь лучше видны зарницы и сполохи переднего края, опытному солдату легче читать на черном экране неба сводку близкого боя.
Но Пестряков справедливо считал эту хорошую погоду плохой, потому что такая ясная ночь делает более уязвимым самого разведчика и сильно затрудняет его жестокую задачу. Вот когда шумит ветер, моросит дождь — и слух у часового притупляется; он норовит поднять воротник, ниже напяливает на уши каску или пилотку, а может быть, даже прячет руки в карманах…
— Ну, мне пора, — произнес наконец Пестряков.
Черемных поспешно снял с себя и протянул пилотку.
Пестряков надел пилотку, оставив уши открытыми, и сказал, криво усмехнувшись:
— Пойду держать активную, подвижную оборону. Так у нас раньше в газетах писали. Когда прытко бегали от Гитлера, холера его возьми… Только я сегодня от фашиста не побегу. Некуда мне бежать. Но и фашист от меня не убежит.
Пестряков накрыл Черемных перинкой, погасил плошку и уже в темноте промолвил:
— Сердце что-то у меня начало хандрить. Надо его сжать в кулак. Ну, бывай. Уговор насчет ребят наших помнишь?
— Помню.
— Не забывай уговор. Чтобы дружбу не потерять.
Пестряков подошел к оконцу. Ныне он лез и вовсе неуклюже, оберегая левое плечо, не решаясь притом опереться о подоконник левой рукой.
На Черемных сразу пахнуло стылой ночью. В предзимье ни к чему такая форточка…
32
И вот человек, у которого на вооружении один-единственный патрон, остается наедине с ночью в чужом городе.
Теперь уже те двенадцать патронов, которые Пестрякову достались после первой дележки в подвале, представлялись несметным богатством. А как он распорядился ими? Эх, недотепа усатый, ни одного на фашиста не истратил…
Время от времени слышались короткие автоматные очереди, но они доносились не с переднего края. Пестряков по себе знает: и ко сну тебя перестает клонить, когда прогрохочут над ухом длинной очередью. А может, не от сна лечатся стрельбой часовые?
Они наверняка встревожены вчерашним происшествием, появлением ночного незнакомца, который отстреливался, а затем перелез через забор и скрылся в саду. Вот и перекликаются друг с другом, бьют очередями в звездное небо.
«Безо всякого счета чешут, гады. В белый свет, как в копеечку».
Он тяжело вздохнул, следя взглядом за зеленым пунктиром трассирующих пуль, прочертивших небо наперерез Млечному Пути.
С тех пор как у Пестрякова притупился слух, он стал внимательнее следить за трассирующими пулями. Все-таки видишь, где опасность. Он теперь мог услышать — «вжик-вжик!» — только те пули, которые пролетали мимо уха. А пули, летевшие чуть подальше, — «фьюить-фьюить!» — оставались для него опасно безгласными…
Как же подкараулить фашиста и обезоружить его?
Нужно выбрать для этой цели часового-одиночку. Оружие у часового всегда у руки, а не спрятано под шинелью, под плащом. Лишь бы у него не было ранца на спине, ведь стрелять придется сзади.
В той стороне, где проходил фронт, немцы вперемежку с осветительными жгли то зеленые, то желтые ракеты, то по одной, то сразу по нескольку.
Пестрякова раздражал непонятный цветовой код, в котором был какой-то свой, неведомый Пестрякову смысл. А он любил вмешиваться со своей ракетницей в чужие переговоры условными сигналами, сбивать противника с толку во время ночного боя.
Небо сегодня звездное, погода летная, поэтому зенитчики наверняка не дремлют, с орудий сняты чехлы.
Пестряков знал, что зенитная батарея стоит в районе кирки, и двинулся в том направлении.
Он прошел несколько кварталов строго на восток, достиг набережной канала и увидел наконец на фоне неба, подсвеченного пожаром, задранный вверх ствол зенитной пушки.
Почему же у зенитки не торчит часовой?
Пестряков едва успел этому удивиться, как в отдалении послышались шаги. Конечно, окажись Тимоша рядом — можно было бы те шаги еще раньше засечь.
Что это часовой разгулялся?
Ага, значит, на его попечении не одна, а две зенитки.
Эта вот зенитка стоит на набережной, место открытое, здесь к часовому незаметно не подобраться.
Между тем часовой свернул обратно в узкую улочку, откуда появился. Там бы ему дорогу и перебежать!
Пестряков пробрался дворами и палисадниками на узкую улочку. Здесь, за каменным забором, он решил устроить засаду.
Пестряков стоял за кирпичным столбом от ворот, сорванных с петель. Половинка их висит на одной петле и чуть шастает, поскрипывает под порывами ветра.
Весьма кстати, что ракеты загораются на востоке: когда светлеет, Пестряков прячется в тени забора.
Пестряков мерз, притулившись к забору, леденившему сквозь бинты простреленное плечо, будто шинель его становилась все тоньше и короче. И вместе с Пестряковым зябли мертвые, неопавшие листья на кряжистом дубе, растущем через улочку. Время от времени виднелись сухие листья и уже по-зимнему голые ветки.
Хорошо, если бы часовой дошел до ворот в тот момент, когда бьют орудия, тогда можно спрятать за громом свой выстрел.
К ночи должно похолодать еще больше. Это плохо, потому что деревенеют пальцы, зябнет спина и мучительно стоять не шевелясь. Но в то же время это хорошо, потому что часовой, наверное, не будет стоять как вкопанный у одной зенитки и станет прогуливаться от угла до угла.
Так и есть, стучат сапоги. Каждый шаг гулко отдается в ночном переулке. Немецкая подметка, она ведь на тридцати двух железных гвоздях, да еще, наверное, подковки набиты. К тому же тротуар вымощен каменными плитами, а от них звук идет шибче, чем от асфальта.
Пестряков вспоминает, что у него самого подметки прохудились, а правый сапог просит каши. Пока Пестряков полз по каналу, набитому мокрой, подгнивающей листвой, чуть ревматизм за ночь не нажил.
Шаги все ближе. Пестряков перестает дышать, теперь он стоит — не шелохнется. Пистолет держит в вытянутой вниз руке, палец — на спусковом крючке.
«Шагай, шагай, фашист. Сейчас мы с тобой встретимся и двое уже никак не разминемся. Только один доживет до солнца. Кому ложится в сырую землю — мне или тебе?.. Вот бы часовым оказался тот самый очкастый жердяй, который танк поджег! — промелькнула шальная мысль. — Сразу бы с ним рассчитался, долг платежом красен…»
Часовой вышагивал не торопясь, каждый шаг его кованых сапог становился громче, а под конец оглушительно отдавался в ушах.