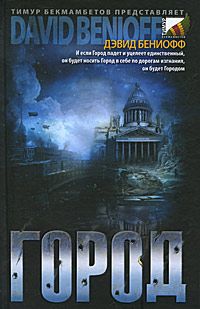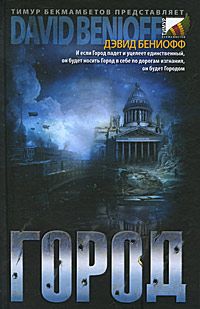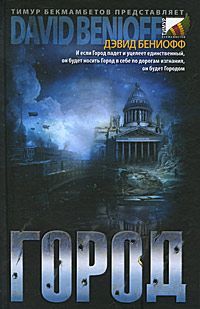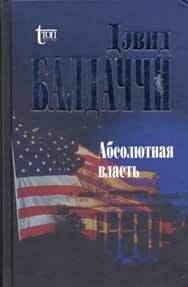Николай Чуковский - Рассказы
Кожич уже ложился на боевой курс, когда самолет Манькова выпал наконец из строя. Пылающий в воздухе костер устремился вниз. Но и пылая, и падая, он продолжал идти к мосту. Воля Манькова управляла им до последнего мгновения. Он разбился о мост, и бомбы взорвались, и, когда огромный клуб дыма отполз в сторону, Кожич увидел, что моста больше нет.
4А как же Кайт? Находился на самолете Манькова и погиб вместе со своим хозяином во время его последнего подвига?
Так и решил Кожич, когда вернулся на аэродром и не нашел Кайта у старта. Но техники сказали ему, что Маньков на этот раз не взял Кайта с собою и Кайт ждал его, пока самолеты не вернулись на аэродром. Когда же он увидел, что на посадку идут не шесть, а пять самолетов и самолета Манькова нет между ними, он вдруг повернулся и побежал, побежал прочь, в дальний угол аэродрома, где рос не выкорчеванный еще ольшаник, и скрылся в кустах.
Четыре дня Кайт не появлялся, и никто его не видел. На пятые сутки ночью Кожич, лежа в землянке, услышал протяжный вой. Он накинул на себя реглан и вышел из землянки.
В темноте что-то мягкое, теплое прикоснулось к его ногам.
— Кайт!
Кожич нагнулся и погладил Кайта. Кайт подпрыгнул и лизнул его в лицо, как лизал прежде Манькова.
С тех пор они неразлучны.
1943
ТРУДНА ЛЮБОВЬ
Опять карты! — сказал политрук Чирков и поморщился. — Терпеть не могу карт!
— Как хотите, — проговорил капитан Гожев примирительно. — Бывает, без карт не обойдешься. Если, например, сидишь и такой яме.
— Каждый вечер играть в дурака! — продолжал Чирков раздраженно. — Поневоле дураком сделаешься.
Кто-то сидевший в темном углу и потому невидимый тихонько кашлянул:
— Кхе-кхе…
— Мы играем вовсе не каждый вечер, и греха в игре нет, — сказал Гожев рассудительно. — Это вы несерьезно. Но если в дурака надоело — не надо. Попросим Елену Андреевну погадать нам на картах.
— Уже всем все нагадано, — сказал Чирков.
Крохотная электрическая лампочка, прикрытой бумажным колпачком, освещала только середину стола. В этом светлом круге на столе двигались пальцы двух маленьких женских рук, торчавших из слишком длинных рукавов черной краснофлотской шинели; они без конца однообразным механическим движением тасовали карты. Политрука Чиркова раздражали, кажется, не столько карты, сколько эти руки.
— Вовсе не всем все нагадано, — возразил Гожев мягко. — Вот товарищ интендант третьего ранга. Он новый у нас человек. Ему еще не гадали.
И посмотрел на Криницкого.
Криницкий почувствовал, что все на него смотрят и ждут ответа, хочет ли он, чтобы ему погадали. А ему между тем было это до того безразлично, что он решительно ничего не мог сказать, Он был все еще ошеломлен стремительным перелетом через Финский залив, посадкой на темном незнакомом аэродроме, где вокруг загадочно гремело и выло, и внезапным своим появлением в этой странной избе, глубоко врытой в землю, среди незнакомых людей, которых он видел в первый раз.
Прошло еще не больше двадцати минут с тех пор, как пропагандист полка политрук Чирков встретил Криницкого на аэродроме и привел в эту землянку. Грохот рвущихся снарядов, сливаясь в почти непрерывный вой, доносился и сюда, но приглушенно. Да если бы Криницкий и не был только что с самолета, он все равно не мог бы заинтересоваться никаким гаданием, потому что та жестокая душевная боль, которая мучила его уже несколько дней и которую он должен был от всех скрывать, делала его безучастным ко всему, что он видел вокруг.
— Ну, что на картах можно нагадать товарищу интенданту? — продолжал Чирков настойчиво, но несколько сдерживая свое раздражение из уважения к гостю. — Опять «казенный дом», опять «дорога». Как будто это и без гадания не ясно. Раз человек на военной службе — значит, он живет в казенном доме, раз человек в командировке — значит, ему предстоит дорога…
— Действительно, Петр Иваныч прав, карты надоели, — сказала женщина мягко, и руки ее опустили колоду на стол; и Криницкий впервые услышал ее голос — спокойный, ровный, удивительно ясный. — Я нашему гостю и без карт погадаю.
— Кхе-кхе… — раздалось в темном углу.
— Как же так? — спросил Гожев. — По руке, что ли?
— Нет, — сказала она. — По лицу.
Она слегка нагнулась вперед над столом, вглядываясь в лицо Криницкого, и свет озарил ее всю. Старая, потрепанная шинель была слишком велика для нее и неуклюже топорщилась; она тонула в своей шинели. Тонкое живое лицо ее, внезапно освещенное, находилось в резком противоречии и с этой шинелью, и с узенькими старшинскими полосками на рукавах, и со всей этой темной, сырой и мрачной землянкой.
Совсем молодое лицо. Без румянца. С той ровной бледностью, которая появляется у тех, кто редко бывает на воздухе. Слегка запавшие щеки, тонкий, прямой нос почти без переносицы, чистый лоб, крупный упрямый рот. И серые глаза, серьезно и сочувственно смотрящие Криницкому в лицо.
— Простите, как ваше имя-отчество? — спросила она.
— Николай Николаевич, — ответил Криницкий. — Интендант третьего ранга Николаи Николаевич Кривошеин.
— Но ведь вы — Криницкий.
— Как же, — сказал Гожев, — в нашей газете мы всегда читаем ваши заметки.
— Лет пятнадцать назад, когда я начал работать в газетах, мне казалось, что Криницкий гораздо красивее, чем Кривошеин. А потом привык.
— Ведь вы сами вызвались лететь к нам на аэродром, — сказала она. — Вас никто не посылал.
— Вызвался? — удивился Криницкий. — Пожалуй, верно, сам вызвался. Я пошел к редактору и попросил. Он поколебался и позволил… Как вы узнали?
— Просто так. Мне подумалось, — сказала она. — Для работников военной авиационной газеты у нас на аэродроме ничего интересного нет. Газете нужны летчики, а летчиков мы тут почти не видим. Прилетят, сядут, заправятся минут за десять, пока немцы не успели поджечь самолеты на земле, и улетят. Ничего тут, кроме обстрелов, нету…
— Да, немцы бьют по нас здорово, — сказал Гожев. — Пристрелялись за год. Ползком живем.
Криницкий все это знал. Аэродром лежал на том отрезанном от всего мира участке южного берега Финского налива, который мы и теперь, через год после того как немцы окружили Ленинград, продолжали удерживать в своих руках. Могучие орудия кронштадтских фортов не дали здесь немцам выйти на самое побережье. Участок этот был настолько невелик, что немецкая артиллерии простреливала его насквозь. И аэродром, расположенный всего в нескольких километрах от передовой, под немецким огнем, не мог служить базой для наших самолетов. На него иногда садились только наши истребители из полков, стоявших на северном берегу Финского залива и в Кронштадте; они торопливо заправлялись горючим и летели дальше, сопровождая бомбардировщики, у которых запас горючего был гораздо больше. Представитель авиационной газеты вряд ли мог найти здесь что-нибудь ценное, разве кое-какой материал для мелких заметок. А уж во всяком случае не было здесь, материала для тех больших обстоятельных очерков о боевых действиях нашей авиации, которые Криницкий время от времени посылал в Москву, в центральные газеты, и успех которых еще неделю назад так волновал его.
— Тут немало таких, — сказала она.
— Каких? — спросил Криницкий.
— Вызвавшихся. Которые сами напросились.
— Почему? — спросил Криницкий.
— Разве вы не знаете, что у людей иногда так поворачивается судьба, что хочется зарыться головой в землю, уйти в такое место, где нет ничего, кроме обстрела, темноты и работы?
— Знаю, — сказал Криницкий.
Он сказал «знаю», и у него перехватило дыхание, потому что он выдал себя. За всю эту неделю ни один человек не догадался о том, что с ним творится. Даже тот его товарищ по редакции, который, ничего не подозревая, показал ему письма… Те письма, из которых Криницкий все узнал… Он испуганно глянул на Гожева и Чиркова, чтобы определить по их лицам, догадались ли они.
— У кого не бывает служебных неприятностей! — сказал Гожев мирно. — Только у того, кто не служит.
— Бывают и другие неприятности, не служебные, — мягко возразила Елена Андреевна.
Криницкий глядел на нее почти с испугом. Неужели она что-нибудь знает о его тайном несчастье? Откуда?
— Сколько бед иногда происходит оттого, что мы не умеем доверять людям, — негромко проговорила она вдруг, словно думая вслух.
— Как? Как вы сказали? — спросил Криницкий, поражаясь и волнуясь все больше.
— Людям не умеем доверять, — повторила она. — И оттого мучаем и мучаемся.
— Нет, позвольте, позвольте, — торопливо перебил ее Криницкий, совсем забываясь от волнения. — Что значит — не умеем? Разве все достойны доверия?
Но тут далеко, в конце длинного наклонного прохода, связывавшего эту врытую в землю избу с поверхностью, стукнула наружная дверь, и все повернули головы, прислушиваясь.