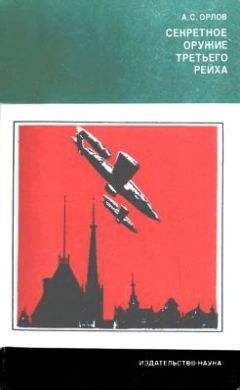Иштван Галл - На крыльях пламени
Мы сидели по-турецки и потихоньку кисли, тупо пялясь в пространство. А между тем это был большой день! Учения подходили к концу, и противотанковую мину в порядке исключения нашпиговали не учебным материалом, а настоящей взрывчаткой, нашпиговали, да еще и взорвут, чтобы мы посмотрели, какую она пробьет дыру.
Посреди лужайки, на дне свежевыкопанной ямы, обреталась мина: нелепый ящик, до отказа набитый тротилом.
До сих пор установкой мины руководили командиры отделений, старшина Фаршанг наблюдал, стоя в холодке.
— Проклятая профессия, верно? — тихо сказал он Габору, отирая ладонью пот и стряхивая его на землю. — Сбеситься можно!
— Как же! — кивнул Габор. — Проклятая, говоришь?! Ну да, хвалить-то ведь нельзя, а то удаче — каюк!
— А я тебе не какой-нибудь охотник, чтобы верить в приметы! — распетушился Фаршанг и тем окончательно себя выдал.
— Да знаю я, старые лисы, вроде тебя, считают…
— Не верю я в приметы! Нет, само собой, бывают дурные знаки, — он глубоко вздохнул. — К примеру, есть одно такое присловье. Оно приносит беду.
— Что за присловье?
Фаршанг пожал плечами:
— Так его же нельзя повторять, а то накличешь беду. Ты что, не понимаешь? Ну, в общем, это звучит как призыв: поехали на тот свет!
— Хотелось бы услышать, — поддразнивал офицер.
— А ты не хоти, — проворчал Фаршанг и добавил, желая избавиться от дальнейших приставаний, — потому что тогда — аминь!
Снаружи, на лужайке, один из новобранцев, с чуть отросшим ежиком на голове, изо всех сил стараясь выглядеть солидно, обратился к командиру отделения:
— Товарищ ефрейтор, эта мина сейчас не взорвется?
Фаршанг в ярости заорал из своего укрытия:
— Молчать во время установки мины! Это вам не посиделки!
— Слушаюсь, — пролепетал любознательный новобранец.
— Молчать!
— Слушаюсь!
Лейтенант Габор потешался над стариком:
— Да хватит тебе. По новым правилам, даже если ты вовсе запретишь ему разговаривать, он все равно должен ответить: слушаюсь.
В прежние времена Фаршанг пошумел бы еще, а теперь вдруг понял: не стоит. И еще он понял, что этакая житейская мудрость не означает ничего хорошего, а означает только одно: старость.
И то сказать, на самом деле у него осталась одна, одна-единственная заветная мечта: сажать картошку. Настоящую картошку. (Ведь старые минеры вроде него ласково именуют картошкой зарытую в землю мину.) И тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, скоро эта мечта сбудется — он уйдет на пенсию.
Фаршанг двадцать лет протрубил в старой армии, где всем было ясно, что человечество делится на солдат и вонючих штатских, и еще там была жестокая воинская философия: весь мир — огромный свинарник, и каждый получает по заслугам — будь то штык в живот или пуля в морду.
Вид старшина имел весьма импозантный, казалось, природа сотворила его в приступе расточительства. Невероятно широкая грудь, огромная голова на дочерна загорелой шее, косматые брови, на правой щеке грубый рубец и лишь под глазами — уютные лучики морщин. Старый пиротехник, он годами монтировал, заряжал, прилаживал мины, бомбы, гранаты, адские машины, У него была присказка: «Это вроде как с женщинами — соображать надо, как к ней подойти». Но бывали и у него промашки. На руке не хватало двух пальцев, спину украшали бугристые шрамы. Еще он слегка прихрамывал. Словом, каждая часть его тела была отмечена фирменным знаком избранной им профессии.
А уж о нервах и говорить не приходится! Они совсем ни к черту не годились. Ему не раз казалось, что под кожей у него идут стальные провода, он чувствовал, как эти провода натягиваются, и знал, что, если когда-нибудь какой-нибудь из них лопнет, он сам разлетится на черепки, как разбитый глиняный кувшин.
В последнее время он часто жаловался командиру взвода:
— Я когда-нибудь свихнусь от вопросов этого малого. «Что? Когда? Почему? Зачем?» И так целыми днями!
— Любознательный паренек, — хладнокровно возражал Габор, которого вообще невозможно было выбить из колеи. Однако урезонить Фаршанга было нелегко.
— За тридцать лет я обучил столько новобранцев, что с ними можно целую войну проиграть, а вот такого до сих пор не видел. Понимаешь?
— Да брось ты, не обращай на него внимания.
— На него-то мне наплевать, но он уже задурил головы всему твоему взводу! Сначала над ним только ржали. А теперь: не взорвется? — а почему не взорвется? — а точно, что не взорвется? И целыми днями — та же песня. Раньше я бы попросту рявкнул на такого субъекта: обоср… со страху, так беги к мамочке! А теперь ничего такого уже не скажешь.
Проклятые вопросы новобранцев выводили его из себя как ничто другое.
— Спокойно, — увещевал он сам себя, выйдя из-под дерева и направляясь к ним, — спокойно!
— Гор, сынок, — это прозвучало ласково, а потому особенно устрашающе. — Гор, сынок!
— Я!
— Не надо мельтешить, дорогой мой!
— Слушаюсь! Я только хотел спросить…
— …твою мать! — заорал Фаршанг в бешенстве, но потом все же взял себя в руки, глубоко вздохнул и вновь заговорил ужасающе кротко: — Сынок, дорогой мой, единственный сыночек, обещай, что не будешь больше задавать глупых вопросов.
— Слушаюсь!
— Цыц!!!
Мы сжались от ужаса, только Гор застыл, выражая всем своим видом оскорбленное достоинство. Вот-вот, так приветствуют жажду знаний! А ведь он начал задавать вопросы с первого дня и с тех пор все спрашивал и спрашивал, не взорвется ли минер, и если нет, то почему? — а ему отвечали на это: лучше дважды спросить, чем однажды ошибиться.
Фаршанг задыхался от гнева, шрам на щеке алел ярче обычного. Этот чертов Гор вечно задавал вопросы, на которые не было ответов.
— Скажите, Гор, вы что, за дурака меня держите?
Тут ему пришлось объявить десятиминутный перерыв, потому что перед глазами у него поплыли круги.
Габор подошел и тронул его за руку.
— Пошли, отдохнем в холодке!
Фаршанг в ужасе уставился на лейтенанта, потому что это было то самое присловье, что звучало как призыв: поехали на тот свет!
Его прошиб холодный пот.
«Чушь, — подумал он, — что за чушь! Я же не где-нибудь, а на учебном плацу, и если мне что и угрожает, то это солнечный удар».
— Что-нибудь случилось, товарищ старшина? — спросил Габор и в своем неведении вновь повторил чудовищную фразу: — Пошли, отдохнем в холодке!
Когда после унылой шопронской казармы мы попали сюда, в Мохор, этот древний парк и этот замок с облицованными деревом стенами и скрипящими винтовыми лестницами, с паркетными полами и каминами показались нам весьма уютным местечком. Мы не очень ясно представляли себе, что такое «техническая подготовка», но радовались заранее. И вот пришли командиры и преподаватели — на нас посмотреть и себя показать. Они встали перед строем, командир роты взял слово, а мы вытянулись в струнку, поедая глазами наших будущих начальников.
Не знаю, кто из нас первым обратил на это внимание и осторожно толкнул локтем соседа, но через несколько минут все глаза расширились от ужаса. Мы ерзали, переглядывались с непривычной для новобранцев серьезностью и читали друг у друга на лицах одинаковое изумление. В задних рядах зашушукались, строй сбился, и в эту самую минуту страх прочно угнездился в наших сердцах.
Рядом с одноруким командиром роты стоял хромой лейтенант. У него над плечом возвышалось изрытое шрамами лицо старшины, похожее на глубоко вспаханное поле. У младшего лейтенанта был уродливый обру, бок вместо уха. И все остальные тоже — хромые, однорукие, с изувеченными лицами. Что же это? Куда мы попали?
Так мы впервые поняли, что нам предстоит стать минерами.
Кормили нас отменно, занятия обычно проходили в помещении, мокнуть и мерзнуть не приходилось — и тем не менее нам было плохо, мы были бы готовы уйти куда угодно, только подальше отсюда.
Командиром нашего взвода был лейтенант Габор — тот, который хромал. Он был невысок, строен, заметно припадал на правую ногу, а на бегу подскакивал, волоча за собой протез. Невзирая на это, он был подвижен, как ртуть, проворно ковылял по двору и казался вездесущим: его резкий голос постоянно раздавался то с одной, то с другой стороны. В других взводах его боялись еще больше, чем в нашем. Он пошучивал не без горечи: «Я из пештских босяков, но черту все равно зачем-то понадобилась моя нога». При этом сам он своими горящими глазами и вечной иронической усмешкой здорово напоминал чертика из табакерки. Нос у него был кривой, а губы во время разговора подергивались, так что казалось, лейтенант корчит рожи.
Не его мы боялись, а тех, кто обучал нас специальности, и больше всего — того, чему они хотели нас научить.
Ну а Фаршанг боялся нас — боялся нашего страха. Ведь этот страх — наглядное свидетельство тому, что он плохо воспитывает солдат, что он стар, что нет к нему должного уважения, и Габору станет ясно, что он всего лишь дряхлый боров, место которому на бойне.