Евгений Астахов - Наш старый добрый двор
Вспоминая отца, Ромка плакал. Отец стоял перед его глазами, похудевший, в большой пилотке на коротко остриженной голове, какой-то совсем непохожий на себя, виновато улыбающийся.
— Что он будет делать на фронте? — причитал Ромка. — Что он умеет? Стрелять не умеет, быстро бегать тоже не умеет, пропадет он там сразу.
Слушая его, Джулька сердилась:
— Тебе не стыдно, да? Такой верзила, усы уже растут, а плачет, как девочка… Папу ему жалко? А мне что, не жалко? Но я же не плачу, никому сердце не рву!
— Молчи, забурда! У тебя у самой сердца нет!..
Ромка зря так говорил. У Джульки было доброе сердце…
Война все дальше и дальше уходила на запад. В городе отменили светомаскировку и комендантский час, с окружавших его гор сняли зенитные батареи и в бывший морской госпиталь, что был на углу Подгорной, въехало какое-то штатское учреждение.
Но, несмотря на все это, Ива и Минас часто вспоминали то, теперь уже казавшееся таким далеким время, когда город был переведен на положение прифронтового, а немецкие авангарды выходили к перевалам Главного Кавказского хребта. И бывший учитель астрономии Кубик, курсант школы младших лейтенантов, в стычке с фашистскими егерями показал себя молодцом.
У Рэмы до сих пор хранилась вырезка из фронтовой газеты, где рассказывалось о Кубике. Вырезка из фронтовой газеты и целая пачка стянутых лентой писем. Обратный адрес: полевая почта. Лейтенанту Вадимину… Капитану Вадимину… майору Вадимину…
— А я писал на стенках «Рэма + Рома»! — Ромка хлопал себя ладонью по лбу. — Ва, какой я дурак был! Надо было писать: «Рэма + Кубик = Мубик».
— Ну с чего ты взял? — возмущался его бесцеремонностью Минас. — У них просто переписка. И я ему пишу. Иногда… Ива тоже вот пишет.
— Он пишет! — Ромка складывался пополам от смеха. — Ты всю жизнь барашка будешь! — Он тыкал в Минасика пальцем. — Пишет!.. Что пишешь? «До скорой встречи…» Это пишешь, да?
— Но с чего ты взял, что Рэма так пишет?
— Знаю. Раз говорю, знаю… Какое твое дело откуда? Ты кто такой?.. Может, мне Джулька сказала, может, сам прочитал.
— А при чем «до скорой встречи»? Это в смысле окончания войны?
Непонятливость Минаса Ромку уже не смешила, а начинала раздражать.
— Ва! Все отличники очень глупые! За что тебя учителя хвалят, не понимаю… Она же после школы на военфельдшера пошла учиться. Так что скоро форму наденет — и ать-два, левой!.. Вот потому «до скорой встречи». На фронте, ну! Понял?
Минас растерянно пожал плечами.
— А ведь она так хотела стать актрисой…
Кем стать? Куда поступать? Чему учиться? Жизнь задает эти вечные вопросы каждому, кто приходит к порогу школы. Война ли, мирное время, все равно задает. Потому что остается всего лишь шаг, и школа за спиной, и надо что-то делать, кем-то быть или хотя бы на первый случай ощутить себя кем-то.
В глубине души Ива завидовал и Минасу и Ромке. У тех была полная определенность: Минас поступал в медицинский институт, как и задумал чуть ли не с первого класса. Ну а Ромка, тот никуда не собирался поступать.
— Что я, сумасшедший?! — кричал он, выкатывая глаза. — Десять лет учился, можно отдохнуть, да? Все равно скоро в армию пойдем. Думаешь, из института не возьмут? Еще как возьмут! Где, скажут, тут этот барашка ходит, которому медаль за жирность дали? Аба, давай сюда, будем из него шашлык делать! Хо-хо-хо!..
— Совсем и, не смешно, кстати! — обижался Минас.
После долгих размышлений Ива решил, что будет поступать на факультет металловедения. По чести говоря, ему было все равно, куда поступать, а раз так, то почему бы не сделать приятное отцу. Металловедение так металловедение…
В городе находилось училище горной артиллерии. Курсанты его, щеголеватые и бравые, в начищенных кирзовых сапогах со шпорами, в фуражках с лакированными козырьками, в гимнастерках с черными погонами, окаймленными золотом, дважды в неделю литой колонной, с песней и присвистом спускались по Арочной улице, неся на плечах фанерные щиты с изрешеченными мишенями. Где-то за Персидской крепостью было их стрельбище.
Ива всякий раз, стоя в классе у окна, провожал взглядом их ладный строй. И невольно вспоминал Юнармию, строевые занятия во дворе музыкальной школы, сердитые команды военрука в выгоревшей пилотке с малиновыми кантами. Давно все это было, невероятно давно!..
Если куда и пошел бы он учиться с охотой большой и не раздумывая, так в это вот училище. Шагать в строю легко и раскованно, держа равнение в затылок. Плечо слева, плечо справа, и ты точно слит в одно целое с сотней таких же, объединенных единым ритмом ребят. Нет ни тебя, нет никого из них в отдельности, есть только строй, упругий, мощный, красивый, словно вырубленный из цельного камня.
— Бат-тарея! Песню!..
И тут же взвивался по-мальчишески высокий голос запевалы:
В тоске и тревоге не стой на пороге.
Я вернусь, когда растает снег…
Ива представлял себя не только в курсантском строю. Видел он, как на взмыленных конях галопом несется его батарея, как лихо разворачиваются упряжки, кричат ездовые. Мгновение — и отцеплены постромки, расчеты бросаются к орудиям, уже прильнули к панорамам наводчики, еще секунда, и хлестнет по сердцу команда «Огонь!», сольется с грохотом пушек и ржаньем рвущихся из рук лошадей.
А в трубке полевого телефона сквозь треск и жужжание такой знакомый голос Кубика:
— Дай еще огонька, комбат! Выручи пехоту по старой памяти, за нами не пропадет!..
Мечты, мечты… Ива ходил в училище, справлялся насчет приема. Ответили обычное: будешь призываться, попросись в райвоенкомате, возможно, и направят к нам.
Его дальний родственник, двоюродный племянник матери, в общем, седьмая вода на киселе, был командиром взвода в училище. Ива, грешным делом, очень надеялся на его помощь, тем более что тот обнадеживал.
— Напомнишь мне своевременно, — говорил он. — Я поговорю с начальником училища; старик души во мне не чает, все сделает, если попрошу…
Ну а пока суд да дело, племянник выпросил у Ивиной мамы серебряную ложку — шпоры заказать. Ива видел потом эти шпоры с колесиками из пятиалтынных монет. Звону-грому на целый квартал.
Да, война все дальше уходила на запад. Но это совсем не означало, что о ней можно было забыть. Она напоминала о себе каждый день и каждый час. По-прежнему сутками не приходил с завода Ивин отец[24] По-прежнему затемно выстраивались очереди у дверей магазинов, и люди бережно доставали завернутые в бумагу разноцветные прямоугольники продовольственных карточек.
Все так же с замиранием сердца ждали прихода почтальона. Что принесет на этот раз седоусый Ардальон, давно разучившийся шутить? Он постарел и согнулся, словно его потертая кожаная сумка стала за годы войны во много раз тяжелее.
Два сына, два его мальчика, погибли еще в сорок первом. Один под Харьковом, другой на Ленинградском фронте.
Два мальчика, такие веселые и такие кучерявые. Погодки… Он не помнит их солдатами, не может вспомнить. Или не хочет. Помнит маленькими.
— У них кочери были совсем как у ягнят… Слава богу, жена не дожила до такого горя… Вы, по-моему, не знали моих мальчиков? Они в сорок первом сразу ушли.
— Как не знали, Ардальон? Что ты говоришь? Замечательные у тебя дети были! Пусть им в чужой земле, как в твоих отцовских ладонях лежится…
Шел старый почтальон, известный некогда на всю округу как непревзойденный балагур, шутник, любитель нард[24] и доброго кахетинского вина. Шел, держась в тени домов, неторопливо и задумчиво, словно сама судьба. По скользкой снежной слякоти, по весенним лужам, по пыльному асфальту шел почтальон: утром с газетами, после обеда с вечерней почтой. И однажды принес в дом на Подгорной сразу два письма.
— Казенные… — сказал он и отвернулся.
В одном из них сообщалось о том, что при выполнении задания командования смертью храбрых пал сын профессора.
Другое письмо было летчику. Пропал без вести Алик. Младший лейтенант Пинчук. Летчик-истребитель…
Набивные папиросы
Кто раньше всех просыпается в городе? Трудно сказать. Скорее всего дворники. Они выходят с метлами и совками, едва только рассветет. Война не война, а город должен быть чистым. И усатые старики, неразговорчивые и хмурые, чиркают по асфальту немудреным своим инструментом, сметают в кучи мусор. Всю ночь гонял его ветер по площадям и переулкам, по подворотням и мостовым. Но вот пришло утро, и кончилась вольная жизнь мусора — колючая метла доберется до него, куда бы он ни забился, сметет в совок, и все — доследующего утра исчезнут с улиц сердитые дворники.
Говорят, в других городах этим делом, особенно в войну, занимались женщины. В других возможно. Но в городе, о котором идет речь, дворниками были только мужчины, чаще всего старики айсоры[25]. Вид у них был устрашающий: закрученные кверху усы, а лица будто отчеканенные из старой потемневшей меди.


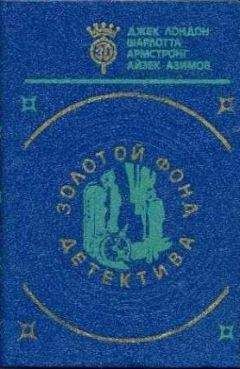

![Валентин Горблюк - Хроники московского провала [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)