Евгений Астахов - Наш старый добрый двор
Над вершинами дальнего хребта показалась бледная, едва очерченная полоска зари. Выбитая в скалах тропа уходила на север, в темноту. Она тянулась серой ниткой, петляя по склонам, сбегала в низины и снова, извиваясь, ползла вверх. Одна из многих сотен троп, затерянных в горах Кавказа…
И снова двор с тремя акациями
Июльское солнце делало свое дело. Давно отцвели лиловые грозди глицинии, и пожухла сирень в нижнем дворе; на акациях созрели кривые, похожие на пиратские ножи стручки. Когда на всех четырех террасах дома не видно взрослых, можно пошвырять в акации палкой, а потом, собрав сбитые стручки, грызть их краюшки, налитые тягучим приторным соком. Вкусно, невкусно, а все же сладко. Не хуже молочного суфле, которое можно купить без карточек, если выстоять часа два в длиннющей очереди.
Кстати, с этим самым молочным суфле было связано очередное Ромкино открытие. Он установил, на каком оборонном предприятии работает Никс Туманов. И, разумеется, тут же сообщил эту новость всему двору.
— Аоэ! — надрывался Ромка. — Никсик-Фиксик-кандидат! Оборонный объект ему поручен, хо-хо-хо! Он суфле делает! В артели пищепрома на Майданском базаре! Рецепты составляет, химик-физик. Немцам это суфле надо с самолета вместо бомбы бросить — покушают и сразу умрут, хо-хо-хо! Оборонно-макаронный суфле!
— Хулиган! — Никс, перевесившись через перила террасы, грозил Ромке кулаком. — Я тебе усы надеру. Мало, видать, тебя по баске стукнули! Есце бы расок да покрепце!
Он замахнулся, чтобы швырнуть в Ромку осколком цветочного горшка, но летчик наехал на него колесами своего кресла. Никс попятился, а тот все теснил и теснил его, перебирая руками туго надутые шины.
— Как ты смеешь говорить это парню! Как у тебя язык повернулся? — Он загнал Никса в угол террасы. — Если я еще раз услышу от тебя что-нибудь подобное, то берегись тогда, Николай!..
И тут все вдруг вспомнили, что Никса-то зовут Николаем. Что он родился и вырос в этом доме, что у него была мать, тихая, добрая женщина, которая улыбалась всем печальной, словно виноватой улыбкой. Это она называла его так: Никсик, когда он был еще совсем маленьким. Теперь вот вырос, облысел, стал «поцти кандидатом наук» и варит молочное суфле в подозрительной артели пищепрома на Майданском базаре…
И все же главной сенсацией дня стали не Ромкины разоблачения, а короткая заметка в газете, всего несколько строчек:
«Курсанты фронтовых курсов младших лейтенантов В. Вадимов и Э. Каладзе в неравной схватке с противником в районе Крестового перевала, умело маневрируя и ведя огонь из ручного пулемета, отбили четыре атаки, нанеся большой урон наступающему подразделению немецких егерей».
Вот и все. Значит, здорово воюет Кубик, хоть он еще не командир полка и даже не младший лейтенант.
— Дай мне эту газету! — попросила Рэма.
— Возьми, пожалуйста.
— Я ее сейчас Валентине Захаровне отвезу, — заторопилась она.
— Какой Валентине Захаровне?
— Матери Вадима Вадимыча, ты разве не помнишь ее? Высокая такая. Она, знаешь, очень, очень хорошая женщина!
И Рэма, схватив газету, побежала вниз по Подгорной к трамвайной остановке, а Ива смотрел ей вслед на толстую косу, на зажатую в руке газету.
Пришел бы сейчас, что ли, во двор седой скрипач, и женщина в темном платье спела б о суровом капитане, полюбившем девушку с глазами дикой серны за то, что у нее были пепельные косы, а в глазах таились нега и обман.
Но давно что-то не видно скрипача. Один стекольщик только и ходит.
— Секла ставлять!..
Никто не зовет его, у всех стекла целые, заклеенные бумажными полосками.
— Пойдем посидим на крыше, — сказал Минасик. Он тихо подошел сзади. Ива даже не услышал когда. — И Ромку позовем, ладно?
— Давай, — сказал Ива.
Они забрались втроем по стволу глицинии, сели у слухового окна.
— У Алика завтра первый полет, — Минасик вздохнул. — Всего на два года старше нас, а уже почти настоящий летчик.
«Завидовать не полагается», — хотел было сказать Ива, но не сказал. Он и сам завидовал Алику.
Ромка смотрел вниз, на холмик под кустом туи.
— В хорошем месте Джульбарса моего похоронили…
И опять Ива ничего не сказал. Что ж, отличное имя — Джульбарс. Так можно назвать только сильную и верную собаку.
— Капитан Зархия щенка обещал дать.
— Охотничьего? — поинтересовался Минасик.
— Не, зачем мне охотничий? — Ромка мотнул головой. — От настоящей овчарки. У его знакомого есть, он говорил.
— Овчарка — это здорово… — Минасик снова вздохнул. Его бабушка панически боялась собак, даже самых маленьких. Поэтому в их семье заводить разговоры о щенках было делом совершенно бесперспективным.
Ромка вынул из кармана горсть слипшихся фиников, положил их на обрывок газеты.
— Кушайте, очень сладкие…
Они лежали на горячей от солнца черепице. Небо было бледно-голубым, почти белым. Одинокое облако заблудилось в нем, замерло на самой середине, словно не знало, куда ему плыть дальше. И плыть ли вообще.
Ива смотрел на облако. Вот оно тронулось с места, медленно поплыло по небу. Все дальше и дальше. Остался позади двор с тремя акациями, залитый солнцем город, серые бастионы Персидской крепости. Облако все быстрее бежало по небу и словно звало за собой смотрящих ему вслед мальчишек…
Часть вторая
Письма в казенных конвертах
Весна сорок четвертого года пришла в город раньше обычного. Утром со склонов окрестных гор еще тянуло сырым, промозглым ветром, но к полудню теплело, люди снимали пальто, несли их, перекинув через руку, говорили друг другу:
— Слушай, такая ранняя весна только до войны была, в тридцать шестом году, как сейчас помню.
— Ты ошибся, дорогой, в тридцать пятом.
— Какой в тридцать пятом? Ты что говоришь? Я в тот год себе еще коверкотовый костюм купил; до сих пор как будто только из магазина.
— Значит, в тридцать пятом покупал…
В этом городе любили спорить. По любому случаю. А если случай не подворачивался сам, то его искали и, как правило, находили.
— Э, Минас! — кричал Ромка. — На мусорном ящике, видишь, два воробья сидят?
— Вижу, — отвечал Минасик. — Ну и что?
— Спорим, правый первым улетит. На что хочешь спорим!
Минаса настораживала такая Ромкина уверенность. Кто их знает, воробьев этих? Поэтому на всякий случай он соглашался:
— Да, пожалуй, правый взлетит первым.
— Тогда спорим на левого! Правый останется сидеть, пока я его по башке не стукну. Спорим?..
Самое удивительное заключалось в том, что Ромка обязательно выигрывал спор. Первым взлетал именно тот воробей, на которого он делал ставку. Как ему удавалось определять воробьиные намерения, не знал никто. В том числе и сам Ромка.
В этом городе люди любили спорить, любили сообщать друг другу новости, неизменно расцвечивая и приукрашивая их, любили ходить в гости и принимать гостей у себя, хотя время продолжало быть голодным и не всегда удавалось поставить на стол блюдо с зеленью и маленькую тарелочку с острым овечьим сыром. Не говоря уже о чем-то более существенном.
— Извините, ради бога, за такое угощение! Что делать — война… Ничего, скоро кончится, и тогда я приглашу вас на таких цыплят-табака, какие только моя бедная мама умела делать!
Гости вздыхали, качали головами, деликатно, кончиками пальцев брали тонко нарезанный сыр.
Война, война… В третий раз за новогодним столом поминали тех, кто никогда уже не увидит свой родной город, не пройдет по его горбатым улицам, не полюбуется красотой его садов, буйным бегом его реки, бесшабашной Итквари. Ни звонкий голос города не услышит, ни пряных его запахов не вдохнет.
Последнюю весть приносили о них короткие письма в казенных конвертах. Какие ребята были, веселые, озорные, за что им злая судьба выпала? Будь проклят тот, кто эту войну затеял, пусть пепел отчего дома засыплет его поганую могилу!..
Люди отламывали кусочки хлеба, макали их в вино, осторожно клали на края тарелок. Это в память о тех, кто никогда уже не пригубит вина в кругу родных и друзей.
Молча чокались, без веселого звона — пальцами, сжимающими стаканы.
— Этот бессовестный микитен[23] одну воду продавать стал! Мне стыдно таким вином хороших людей поминать…
Неожиданно для всех Ромкиному отцу пришла повестка из райвоенкомата.
— У тебя же бронь! — всполошились домашние. — Ты же заведуешь военной столовой! А здесь: ложку, кружку, военный билет при себе иметь. Какое имеют право?
— Откуда я знаю, — растерянно отвечал Ромкин отец. — Сегодня есть бронь, завтра отменили, я что, нарком вам, что ли… Может, это просто так, для проверки вызывают…
Но вызывали его не для проверки. Через три дня Ромкин отец, уже в гимнастерке и желтых английских ботинках, шагал в шеренге таких же новобранцев по пыльному плацу, окруженному приземистыми зданиями карантинных казарм, построенных лет двести назад.


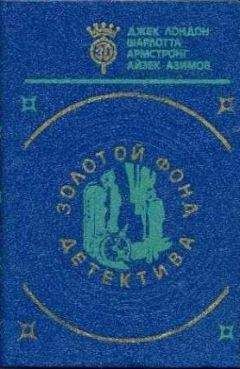

![Валентин Горблюк - Хроники московского провала [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)