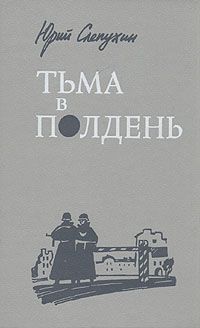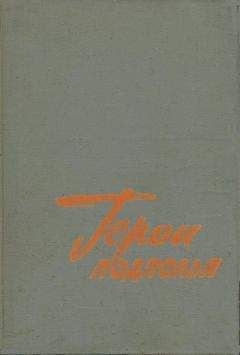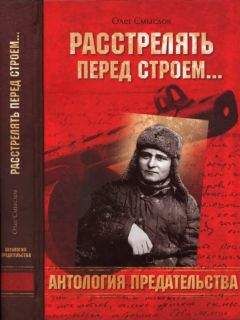Юрий Слепухин - Тьма в полдень
– Посказились, курвы! – орал пан вахмайстер. – Зараз позапираю вагоны – до самого Берлину носу не высунете, трясця вашей матери!! Геть по местам, шлендры непотребные, паскуды!
– Ну ты там потише, – издевательски, с ленцой, отозвался голос из темноты теплушки. – Ишь, разорался! Мы еще немцам скажем, чем там твои бандиты занимаются. На каждой станции уголь на курей да на самогонку меняете, думаешь, никто не видит! То-то нажрал ряшку – шире задницы...
Пан вахмайстер побагровел еще больше и убежал доругиваться к другому вагону.
Людмила лежала, кутаясь в пальто, подмостив под голову рюкзак. Как тогда сказала Таня – «угораздило же нас родиться в историческую эпоху»? Для историков эти сороковые годы будут просто кладом... для историков, для социологов. Сколько проблем, сколько неожиданностей! Вдруг, в середине двадцатого века, в цивилизованном государстве возрождаются институты рабовладельческого общества. Как? Почему? Никто ведь этого не предвидел, не мог предвидеть. И вот по тем самым местам, где четыреста лет назад татары гнали на невольничьи рынки свой ясырь, снова везут полонянок – на этот раз, правда, в другом направлении. И везут не в гаремы, а на заводы, только и разницы. А впрочем, и на этот счет нельзя быть уверенной...
Ей теперь почему-то было уже почти не страшно. Так или иначе, она пропала. Глупо как все получилось... Не сорвись она тогда на бирже, не вступи в разговор с этой Винкельман, та не обратила бы на нее никакого внимания. Кто ее дернул вылезти со своим знанием немецкого... В такие моменты ведь не всегда соображаешь, что лучше и что хуже. Ее просто взорвал этот наглый тон: «...могла бы сойти за девушку из хорошей семьи, если бы не отрепья...» До чего глупо, надо было взять себя в руки, ответить через переводчицу и уйти...
Да, надо было сделать именно так, но получилось иначе. За себя, в сущности, ей уже не страшно. Что еще могут с ней сделать? А за Таню страшно: как она там будет, совершенно одна, такая неприспособленная, слабая?..
Интересно, что пережила доктор Земцева, когда прочитала в сводке об оставлении Энска. А может быть, ей вообще некогда читать сводки? Интересно, приехал ли туда Кривцов. И что он сказал, встретившись с сотрудниками института. Пожалуй, единственное, что ему теперь остается, – это утверждать, что все, кого он должен был эвакуировать, погибли во время бомбежки. Сейчас никто не проверит, а потом... потом всегда можно найти какое-нибудь объяснение. Так или иначе, если только Кривцов добрался до Ташкента, ее уже считают мертвой. Ну что ж, тем лучше.
Они стояли в Проскурове до самого вечера. После обеда эшелон перегнали на другой путь, по соседству с санитарным поездом. Вагоны, с наглухо замазанными белым окнами, с огромными кровавыми крестами на стенках и крышах, наводили на мысль о кладбище, – длинные, тихие, они были похожи на гробы. Девушки притихли, столпившись в дверях.
– Тоже небось и немцам достается...
– А ты думала! Это еще морозы настоящие не вдарили, а то запрыгают. У нас стояли, так один все жаловался: «Никс гут Украина, кальт, плёхо»... Будет им еще «кальт»!
– А нехай, мы их на галушки не звали. Сидели бы у себя в неметчине...
– Девчата, чего это написано на вагоне? А ну, кто умеет по-ихнему! Слышь, Люда, глянь-ка – чего написано, «Митрофан», что ли, какой-то...
Людмила выглянула: поверх широких окон санитарного вагона шли большие выпуклые буквы «MITROPA», из-под облупившейся камуфляжной краски на О была видна потемневшая позолота.
– Не знаю, девочки, – сказала она. – «Митропа»? Может быть, название какое-то? – Она вспомнила «Красную стрелу», на которой в прошлом году возвращалась из Ленинграда, и догадалась. – Это, наверное, название экспресса.
– Во, девчата, – вздохнул кто-то, – чего война наделала. Когда-то в этом вагоне люди отдыхать ездили.
Вечером бывший экспресс бесшумно тронулся и, медленно набирая ход, ушел на запад, – молчаливая вереница четырехосных пульмановских гробов, помеченных кровавыми крестами. Наконец двинулся и эшелон. Девчата закрыли дверь, в полумраке тускло светилась докрасна накаленная реквизированным антрацитом печка. «Ой, не свиты мисяченьку», – тоскующим сильным голосом запела Наталка Демченко – та самая рыжая насмешница, что переругивалась с паном вахмайстером. Кто-то заплакал.
– Чего зажурились! – крикнула Наталка, оборвав песню. – Не дрейфь, девчата, мы еще с тех фрицев юшку будем давить. А ну, заспиваемо чего повеселее! «Як була я маленька» – все знают?
Як була я маленька -
Колыхала мене ненька!
Ой дуб, дуба, дуба,
Дивчина моя люба...
А як стала пидростаты –
Стали хлопцы колыхаты...
– Ой дуб, дуба, дуба, – подхватили девчата. В следующем куплете Наталка загнула такую импровизацию, что все покатились от хохота.
Ночью эшелон пересек границу, – об этом догадались только утром, увидев написанное не по-русски название полустанка. Стало еще холоднее, болты и заклепки на стенах обросли инеем, дверь теперь уже не открывали, оставили только маленькую щель для вентиляции. Снаружи проплывал чужой галицийский пейзаж – заснеженные холмы, каменные фольварки среди ржавых дубовых рощ, островерхие костелы. Не останавливаясь, эшелон прошел через Львов, по-новому Лемберг, – большой, сказочно красивый в розовом и серебряном морозном тумане, и снова под стук колес потянулась мимо ровная снежная пустыня.
В пересыльном лагере Перемышль было много народу, в основном молодежи из западных областей – Львовской, Винницкой, Ровенской. Население все время менялось, почти ежедневно какой-нибудь новый эшелон разгружался на подведенной к лагерю ветке, а потом эти же теплушки, приняв очередную партию полонянок, шли дальше – в Силезию, или в Померанию, или в Восточную Пруссию. А то и куда-нибудь в Вюртемберг.
Одних отправляли сразу, другие жили здесь уже по две недели. Впрочем, эти не горевали, – торопиться было некуда. Кормили в лагере сносно, на работу не гоняли, если не считать обычных дежурств по кухне и по уборке территории.
Каждое пополнение прежде всего проходило санобработку и медосмотр, но накануне прибытия эшелона из Энска произошла авария в котельной и баня не работала три дня. На четвертый день утром их погнали в одну из новых секций (по перемышльской тюрьме можно было изучать историю, площадь она занимала огромную, поделенную на дворы и дворики, и рядом с приземистыми кирпичными бараками времен Франца-Иосифа высились бетонные корпуса, возведенные здесь перед самой войной). В обширном холодном помещении, пахнущем сыростью и дезинфекцией, девушек встретила раздраженная надзирательница с палкой.
– Давай-давай, всем раздеваться, живо, одёжу в узлы и сюда! – закричала она, указывая палкой на стоявшие вдоль стены металлические тележки с высокими решетчатыми бортами. – Кожаное все отдельно, а то сгорит в камере. Живее, кому говорю, не на танцы пришли!
Подгоняемые окриками и с опаской поглядывая на палку, девушки торопливо раздевались, связывали одежду в узлы. Одна, растерявшись, положила туда же и туфли, надзирательница налетела, дернула ее за волосы.
– Куда суешь, дура! – закричала она, расшвыривая вещи ногой. – Сказано – класть отдельно! Останешься без обуви, а после выдавай тебе казенную...
Кое-как навели порядок. Обувь расставили на полке, тележки увезли, надзирательница угомонилась и стала выдавать мочалки и мыло. Помыться удалось хорошо, – горячей воды было вдоволь, никто не торопил. После бани одеться не дали. «Одёжа еще в камерах, – сказала надзирательница, – идите сперва на медосмотр».
Голыми их погнали в другое крыло здания – бегом по коридору, потом через широкую лестничную площадку; по лестнице спускалось двое немцев в форме, они не обратили на девушек никакого внимания, словно перед ними прогнали стадо овец. Ждать пришлось долго, в кабинет впускали по десять человек – выкликали по карточкам. Прошедшие осмотр не возвращались, – очевидно, их выпускали через другую дверь.
Принято считать, что врачу можно показаться не испытывая стыда. Но в этом огромном, залитом солнцем кабинете Людмила испытала не просто стыд, а какое-то предельное, леденящее унижение. Хотя, в общем, врачи ничего себе не позволяли. Их было много – все почему-то на одно лицо, загорелые молодые люди в белых халатах, на которых дико и кощунственно выглядела черная сдвоенная молния СС. Девушка получала у входа свою карточку и потом переходила от одного специалиста к другому.
Врачи не торопились, – все эти осмотры, видно, порядком им надоели; пока одни работали, другие курили, слонялись по кабинету, рассказывали друг другу анекдоты.
Страшным было то, что немецкие врачи совершенно явно не видели и не желали видеть людей в своих пациентках,
Они осматривали девушек, как можно осматривать лошадей. И если на невольничьих рынках в старину практиковались какие-то медосмотры, то, очевидно, приблизительно так это и выглядело. Пациент был товаром, в лучшем случае – объектом любопытства, но не больше.