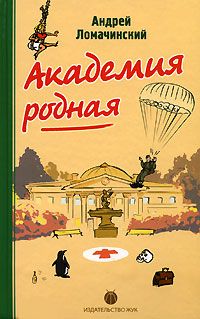Олег Смирнов - Эшелон
Да, честно признаюсь: я устал от войны. Даже от воспоминаний о ней устал. Потому что война штука тяжелая и кровавая.
Впрочем, не совсем так. О войне можно вспоминать по-разному: на ней были и свои радости, какие-то светлые, возвышенные минуты. Ну, например, как нас встречали поляки. Это незабываемо!
Так вот: отчего бы не вспоминать о приятном, о радостном? День у меня нынче удачный, настроение отличное, зачем же отравлять его? Я буду вспоминать о радостном. Как нас встречали поляки?
Бардзо добже! Очень хорошо! Все население выходило на дороги, к непременным статуям святой девы Марии. Улыбки, слова благодарности, цветы, угощения — для освободителей. Проклятья — ушедшим немцам. Понятно: Гитлер намордовал поляков. Правда, были и немецкие пособники, они косились, и польские власти их подчищали. Были и такие — приходу нашему рады и в то же время настороженны: "У нас Советы будут? Колхозы?" — боялись колхозов. Мы отвечали: наша миссия — освободить Польшу от фашизма, что у вас будет, сами решите, в ваши внутренние проблемы не вмешиваемся, и насчет колхозов сами решайте. Ну, а в целом народ встречал нас открыто, любовно, по-братски. Полячки вертелись вокруг наших офицериков. А те — откуда что взялось — вмиг научились любезничать по-польски: "Целую ручки". Держи марку, воин-освободитель! Ругаться и то стали пятью этажами ниже, попольски: "До холеры ясной". Не ругательство, а лепет. Но опять же — марка. Впрочем, мы находили общий язык — и с полячками, и с поляками. Теплота была необычайная.
Сейчас этой теплоты поубавилось, вернее — она потеряла свою первоначальность, что ли. По-моему, естественно. Не может же радость (как и скорбь) гореть одним и тем же накалом, время изменяет степень накала. Сути не изменит, потому что поляки навечно сохранят в памяти дни освобождения своей родины. А мы никогда не забудем, как пробивались к Польше, как несли ей свободу.
Все это высокие понятия, а попроще: сегодняшняя сцена. На стихийно возникшем подле эшелона рыночке пан торгуется с нашим солдатом, выменивая сало на трофейный фонарик. Солдат просит кус побольше, пан предлагает поменьше, солдат чешет затылок, крякает — давай, где наше не пропадало, — отдает фонарик, но пан вдруг сует ему большой кусок: "Вшистко едно" — "Все равно". Солдат в свою очередь добавляет к фонарику немецкий перочинный нож. Словом, широта и благородство двух договаривающихся сторон!
И еще радостное воспоминание о Польше: здесь, на стыке с Белоруссией, едва-едва перешли границу, начальник политотдела дивизии вручил мне партбилет. На марше, на большом привале.
Наконец-то переведен из кандидатов в члены партии! Никак не получалось: только соберу рекомендации, начну оформлять — бац, ранен, эвакуируют, все накрывается. Пожимая мне руку и поздравляя со вступлением в члены Коммунистической партии, полковник сказал: "Этой чести вы, товарищ Глушков, удостоены за то, что преданы Родине, бесстрашно сражаетесь за нее. Сейчас это определяющее. Другие же качества большевика вам еще предстоит в полном объеме воспитать в себе. Вы меня поняли?" Да, я понял полковника. Я далек от идеала коммуниста. Но шел к нему и иду.
Иногда оступаясь. Из-за молодой резвости и дури.
А в кандидаты ВКП(б) я вступал под Ржевом. Был лютый морозище, в заиндевевшем, заснеженном бору постреливали деревья. Принимая от секретаря парткомиссии кандидатскую карточку, я знал, что завтра здесь будут стрелять не одни деревья…
Когда командир полка вручил мне медаль "За отвагу", я радовался так, как не радовался ни одной из последующих наград, включая ордена. Медаль носил, выпятив грудь, ночью, просыпаясь, гладил серебряный кружок, будто хотел удостовериться, что медаль при мне.
* * *День складывался определенно удачный. Не покидала приподнятость. А тут еще комбат похвалил. На остановке, где получали ужин, он забрался в нашу теплушку, морщась от боли. Походил, опираясь на палочку, по вагону, поворошил сено на нарах, заглянул под нижние нары, взял из пирамиды автомат, проверил, чист ли канал ствола, и остался доволен:
— Молодцы, поддерживаете порядок. И — чтоб ни одного отставшего!
— Будем стараться, товарищ капитан.
— Старайся, Глушков! — Комбат улыбнулся, по стянувшие лицо рубцы были неподвижны, об улыбке можно было догадаться лишь по подобревшим глазам.
Стоянка была долгая-предолгая. Мы поужинали, вымыли посуду, кто улегся отдыхать, кто вылез побродить. Я прогуливался у вагонов с Трушиным, беседовал на отвлеченную тему — о роли личности в истории. Вот — Трушин: сам же поругивал меня за философствование, а тут затеял собеседование, умствует. И тут я увидел Головастикова. Солдат шел от толкучки, от базарчика, кренясь из стороны в сторону. Еще до того, как стали видны его красное, распаренное лицо, выпученные, словно побелевшие глаза и бессмысленная улыбка на толстых обветренных губах, я уразумел: пьян. Мы быстро переглянулись с Трушиным. Он проворчал:
— Вот тебе личность, с которой можно влипнуть в историю.
Пошатываясь, Головастиков приблизился к нам, приложил пятерню к голове, на которой не было пилотки, икнул и сказал:
— Здравия желаю, товарищи офицеры.
Я глядел на солдата, готовый съесть его с потрохами. Трушин смотрел на меня, Головастиков — на него: наши взгляды бежали как бы по кругу, один вслед другому. Негодуя, я решал, что же предпринять с Головастиковым: водворить его в теплушку или немедленно отвести на гауптвахту в хвосте поезда? Трушин сказал:
— Единоначальник, прояви железную волю и твердый характер!
Возможно, я бы проявил эти завидные качества, если б пе прицепили паровоз. Проканителишься с этой гауптвахтой — отстанешь от эшелона, чего доброго. Отрывисто, по-командирски, я приказал:
— Головастиков, марш в вагон!
— Ну, пжаласта… Я что?
Он опять козырнул, едва не упав, повернулся, по-уставному, через левое плечо, и начал хвататься за лесенку. Трушнн укоризненно пожевал губами и направился к своей теплушке, а я подтолкнул Головастикова не весьма вежливо:
— Живо залезай!
— Ну, пжаласта… Я что?.. Ик…
В вагоне Головастиков плюхнулся на скамейку, таращился, идиотски улыбался. Я подошел к нему вплотную и крикнул:
— Вста-ать!
Солдат попробовал приподняться. Теплушку дернуло, и он упал на скамью. Кто-то прыснул, но это, может быть, и в действительности смешное падение окончательно взбесило меня:
— Вста-ать, говорю!
— Пжаласта… Товарищ лейтенант… Я ничего… С этой войной всю пьянку запустил.
Я схватил его за шиворот и поставил на ноги. Процедил:
— Как же тебе не стыдно, Головастиков? Где же твоя совесть?
Головастиков покачнулся, икнул и сказал зло, яростно:
— Ты что меня сволочишь, лейтенант? На твои пью? А ежели душа горит? Ты что лезешь?
Еще минута, и я потеряю самообладание и случится непоправимое — ударю Головастикова. А он шагнул ко мне.
— Не сволочи, лейтенант! Не то схлопочешь!
И замахнулся. Я поймал его за руку, оттолкнул, приказал:
— Свиридов и Логачеев, связать его!
Свиридов и Логачеев — первые попавшиеся на глаза.
Они без всякого рвения, вразвалку, подошли к Головастикову, встали по бокам, занялись уговорами:
— Ты что, Филипп? Спятил? Не буянь! Ну, выппл маленько, с кем не бывает… Так ложись, проспись…
— Убью всех, зарежу! — заорал Головастиков и рванулся, но Логачеев со Свиридовым насели на него, скрутили, связали руки за спиной ремнем.
— Положите его на пары, — сказал я.
Головастиков извивался, пытался вскочить, сучил сапогами, страшно ругался.
— Свяжите ему ноги.
Однако и после этого Головастиков не успокоился. Бился головой о нары, пускал слюну, хрипел:
— Стервы, суки… Всех убью, зарежу… И Фроську убью, зарежу… Сука, гуляет… Зарежу…
— Засуньте ему кляп, — сказал я, и только после этого Головастиков утихомирился.
11
Вот так удачный день! Шло как по маслу, а закончилось препаскудно. Дрожь не унимается, во рту сохнет. И поташнивает от всего того, что приключилось. И ощущение: нечто липучее, постыдное, как сыпь от дурной болезни, оставило на мне след то, что сделал Головастиков, и то, что сделал я. Пакость, мерзость, гадость!
Похвалил комбат — за порядок. Да-а, порядочек в роте. И все из-за водки. Пропади она пропадом, кровь сатаны, как называют ее католики. Чепе! Солдат напился, замахнулся на меня, офицера.
И я хватал его за шиворот, чуть не ударил, приказывал вязать, засовывать кляп. Противно. А ведь и сам господин офицер изволили выпивать, больше того — перекладывать, выделывать фокусы.
Так имею ли моральное право вершить скорый суд? Имею не имею, а приходится вершить. Если не моральное, то должностное право есть. А одно без другого много ли стоит?
Самое для меня тягостное в этом происшествии, — не будем именовать его чрезвычайным, спокойнее, спокойнее, лейтенант Глушков, — я вновь уловил какую-то разобщенность между нами.