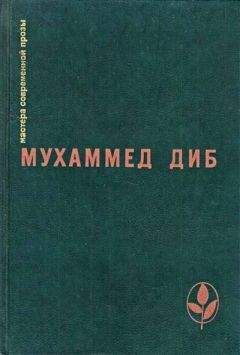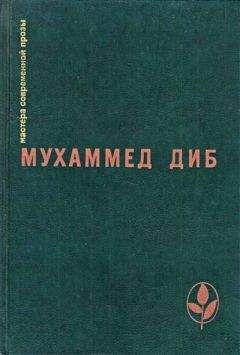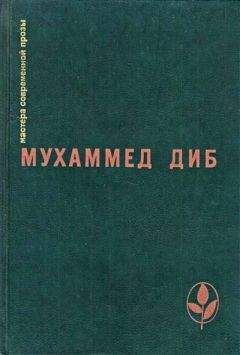Илья Вергасов - Крымские тетради
Он не верил, а мы, партизаны, верили и боролись за него — за него, за его прошлое, нужное настоящему.
И нас поняли и в Ленинграде, и в правительстве. Монетный двор родного города отлил специально для него и Золотую Звезду и все ордена.
Но прежде чем получить все это, мы пропустили Филиппа через свой суд партизанский.
И он расплачивался за свою слабость и неверие дорогой ценой.
И сейчас по Ленинграду ходит синеокий рабочий человек, и в торжественные дни на его груди сияет Золотая Звезда!
…Итак, связь с Севастополем была установлена.
Город молниеносно откликнулся на нашу беду. Прилетали самолеты чуть ли не каждую ночь и бросали, бросали нам продовольствие, медикаменты.
Это случилось после 20 апреля. Еще раз обратите внимание на документ. Голодная смерть косила партизан до 24 апреля, а потом до 6 мая — ни единого смертельного исхода!
Но почему же 6 мая снова нагрянула катастрофа? Тут уже слово за медиками. У нас были сухари, концентраты, был даже сахар. Паек выдавали по тем временам обильный, а люди умирали. Так случилось не только в одном Ялтинском, но и в других отрядах района…
По-видимому, еще раньше была перейдена черта, отделявшая жизнь от смерти, лишь затянулась агония. Никакие продукты обреченных спасти не могли…
21Горячее июньское солнце насквозь прожигало лес, кричали кукушки, надолго открылось над горами яркозвездное небо.
И вот, пока еще не видимый, гудит самолет. На маленькой поляне выложено три костра в ряд, у каждого из них по партизану, в руках спички.
Гул ближе. Вот моргнул бортовой сигнал, раздалась команда:
— Костры!
Три вспышки огня, столбы пламени. С самолета ответный сигнал: «Понятно!»
В белолунии открываются шелковые купола парашютов. Они раскачиваются под легким ветром.
— Собирать парашюты!
Через полчаса на лунной поляне вырастает гора торпед-мешков с продуктами, взрывчаткой, одеждой.
Я распределяю сухари, консервы, концентраты.
— Ялта! Пять мешков сухарей, триста банок мясных консервов, тысяча пачек концентратов. Получай!
Все выдается под ответственность командира или комиссара.
— Товарищ Кривошта, задержись! — приказываю командиру отряда.
Идем к речушке, усаживаемся на бревне. И я и Кривошта в новеньком красноармейском обмундировании, обуты в добротные ботинки — нас щедро снабжает Большая земля.
— Докладывай!
Как далеко оно кажется, то время, когда мы с таким трудом организовывали нападение на какую-нибудь одиночную немецкую машину. Нелегко вспоминать те тяжелые дни. Каким холодом веет от них…
Сколько партизанских могил разбросано по негостеприимной суровой яйле… Разве их сосчитаешь…
— Докладывай!
И он, Кривошта, говорит о походе взвода Гусарова. Гусаров! Помню его: с цыганскими плутовыми глазами повар из Алупки. Из таких, что, если понадобится, из топора суп сварит. Это его изобретение — партизанский суп из липовых почек, приправленный горным чесноком. Вместо соли — полынь. Ничего, ели и даже похваливали.
Так вот, Гусаров забастовал. Хватит! Теперь отряд взяла на снабжение страна, на кухне управится любой чудачишка. Бывший партизанский повар повел на дорогу пятерку, составленную из партизан, выписанных из санитарной землянки.
Трое суток рейдировал Гусаров. Разбил пятитонную машину, снял патрульных на магистрали, попал в засаду, но опередил немцев, скрылся, а потом спустился по тропе ниже, сам притих в засаде. И клюнуло! Через полчаса немцы напоролись на его пули. На этом дело не кончилось. Гусаров пересек яйлу, спустился к селу Бия-Сала, оборвал на целый километр линию связи и снова засел в засаду. На мотоцикле подкатили немецкие связисты. Через минуту не стало ни связистов, ни мотоцикла.
Рядовой поход рядового командира.
В июне 1942 года ялтинские партизаны воевали необычайно свободно. Школа есть школа! Их осталось сорок восемь человек, но они, эти сорок восемь, с лихвой заменяли десять таких отрядов, каким был мошкаринский…
…Пока идет беседа с командиром ялтинцев, самолет совершает прощальный круг и берет курс на Севастополь. Сперва он отклоняется в сторону до точного ориентира — Медведь-гора; а потом над морем — и на запад.
Через двадцать минут получаю радиограмму: «Самолет обстрелян зенитной установкой Гурзуфа. Примите меры!»
Радиограмму показываю Кривоште:
— Как думаешь поступить?
— С этим только Зоренко справится, — говорит Кривошта.
— Снаряжай. Завтра же.
— Есть. Разрешите идти?
Поворачивается налево кругом строго по-уставному и широким шагом идет на поляну. Я задумчиво смотрю ему вслед…
Прошло всего двое суток, а в моих руках уже рапорт Кривошты.
На горе Болгатур, что нависает над Гурзуфом, стояла зенитная установка, теперь ее нет! Попутно Семен Зоренко подорвал на шоссе тот самый мост, который рвал уже трижды, а потом уничтожил три километра линии связи. На рассвете, перед отходом в лес, оказался на окраине деревни Никита. Напал на немцев, отбил у них полевую радиостанцию. И вот она лежит в моей землянке…
Ялтинцы — классики партизанской тактики. За июль тридцать раз успешно напали на фашистов. Это не сказки, в партийном архиве лежат подлинные документы, рапорт об этих зрелых днях. Но не менее важное — данные разведки. Ни одна машина, ни одна пушка не проходит мимо партизанских глаз. От южнобережной магистрали тянется цепь информаторов. Эстафетой передаются данные в наш штаб, от нас — в штаб соседнего района, которым командует Северский, а оттуда без промедления — в Севастополь. Вот бы когда пригодились сведения Нади Лисановой, Горемыкина, братьев Гавыриных! Но увы…
Ялта в полном смысле слова стала военным лагерем. Госпитали опутали колючей проволокой, у въездов торчат бетонные доты, дежурят солдаты с пулеметами. Вокруг госпиталей секретные мины. На них часто подрываются козы.
Жизнь кое-какая идет только на набережной. Тут прогуливаются офицеры, на пляжах видны купающиеся.
Дико и пышно расцвели неухоженные розы. Трава захлестывала парковые дорожки. Трава вообще наступала на город, пробивалась сквозь асфальт, выпирала из расселин подпорных стен.
Выпирали и разрушались мостовые, оседали постройки. С крыш по стенам лилась вода, оставляя темно-серые следы. По молу ходили одичалые кошки с шелудивыми боками. Так, должно быть, начинается смерть города…
Но пока еще работали бойко кофейни — подавали, как правило, эрзац-кофе; кое-как дышал ялтинский базар — цены на продукты были баснословными…
В лес пришло потрясшее нас донесение: в Алупке действует Воронцовский музей-дворец! Открыт для всех посетителей… Невероятно!
Во дворце побывали: командующий фон Манштейн, министр рейха Розенберг, Антонеску, король румынский Михай.
Музеем руководит то ли Щеколдин, то ли Школдин.
22Мы точно выяснили: шефом музея-дворца был не кто иной, как бывший старший научный сотрудник Степан Григорьевич Щеколдин.
Смутно помню этого гражданина. Осенью сорок первого наш истребительный батальон располагался в подсобных помещениях Воронцовского дворца. Человек со связкой ключей часто попадался мне на глаза. Ему было не то тридцать, не то сорок лет, будто и не стар, но далеко не молод; при улыбке морщит все лицо. Лоб покатый, взгляд ощупывающий. Он часто бывал в нашем штабе. Как-то я попросил его задержаться на минуточку:
— Что вас интересует, товарищ?
— Эвакуация музея.
— Идите в горсовет.
— Каждый день там бываю, только без пользы.
— Но мы эвакуацией не занимаемся, — заявил я, давая понять, что вопрос исчерпан.
Поздняков задержал его:
— А ты иди в райком партии, настаивай. На самом деде, нельзя бросать псу под хвост подлинники Боровиковского, английские гобелены…
Однажды хранитель вбежал без спроса:
— Взорвать хотят!
— Что, кто?
— Взрывчатка… машина…
Во дворе музея стояла трехтонка со взрывчаткой… Около нее уполномоченный НКВД, наш комиссар…
Комиссар с возмущением распекал уполномоченного, высокого, молодого, в пилотке.
— Какой дурак мог даже подумать об этом! Сейчас же убирайтесь со своей взрывчаткой!
— Я выполняю приказ, товарищ комиссар батальона. И никуда не уйду.
Поздняков вызвал бойца, что-то ему шепнул, и через несколько минут появилось отделение истребителей. Машину выдворили вон, у музейных ворот встала охрана.
Я не вмешивался в комиссарские дела, — в какой-то степени они были понятны: в нем заговорил музейный работник. И пусть…
А только не мог понять, до конца ли он прав. Мы тогда жили и действовали под влиянием речи Сталина от 3 июля и ничего не хотели оставлять врагу. Дворец, положим, не военный объект. Но может в нем расположиться крупный штаб? Я даже воображал, как вот по этой беломраморной лестнице идут немецкие офицеры…