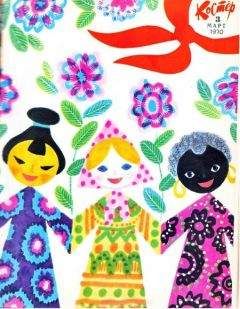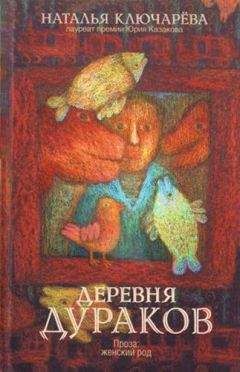Борис Леонов - Солдаты мира
Да, он обязательно нарисует эти листья, эти грифельные стволы, за которыми мелькают люди и их тени, этот тонкий ноготок луны и грустноглазую корову — все, чему он обязан сейчас радостью. Он быстро подошел к столу и выпил полный стакан вина. Ольга Игоревна со смехом схватила его за руку и подтолкнула к отцу: «А ну, пляши!»
Потешно дрыгая плечами, Арсентий Павлович пританцовывал возле Марии Иннокентьевны и все время пытался пуститься вприсядку. Родион изумленно замер: никогда в жизни он не видел отца таким смешным и заурядным. Когда гармонист еще пуще подсыпал соли на хриплые мехи, Ольга Игоревна не выдержала, как-то по-бабьи игриво вскрикнула, выплеснула руки на бедра и зачечетила каблуками по земле. Охваченная вином и счастьем, она была легкой и красивой, так что даже Мария Иннокентьевна, устало отойдя в сторонку, удивленно ахнула и промокнула хвостиком платка слезинку. И вдруг Родион, словно кто-то пихнул его в спину, бросился в круг и тоже заколошматил ногами по земле. Стыд вовсе не мешал ему, он был вне его, как и все, что было до этого. И люди, как будто понявшие, что в этой семье еще никогда не было такой минуты, окружили Цветковых.
На какой-то миг Родиону показалось, что он умер и танцует только его тело, что ему снится это сияющее мелькание размытых лиц, деревьев, луны. Господи, неужели это его мама? Когда же она плясать так и радоваться научилась и где она жила эти двадцать четыре года? Отец, а где он хоронился все это время, за какими кривыми зеркалами?
Вдруг Ольга Игоревна пугливо остановилась и побледнела. Тотчас же метнулся к ней Арсентий Павлович, словно был начеку. Ее отвели за руки в комнату и уложили на кровать. Она закрыла глаза, чтобы не выдать боли. От подушки пахло нафталином и по́том, а когда к ним примешался запах вина — стало вовсе отвратительно и тоскливо. А тут еще замяукала кошка, и была она, как назло, черной, с зелеными глазами. Родион осторожно поднес мамину руку к губам и поцеловал. Ольга Игоревна разжала ресницы и взглянула на сына. Вдруг вся содрогнулась, закашлялась. Родион выскочил в сад, и страшно ему стало среди черных стволов и белых скатертей.
Из медпункта прибежал Николай Тараканов и, матюкаясь, сообщил, что фельдшер лыка не вяжет, и пришлось позвонить в соседнее село — приедут через полчаса, не раньше. Ольге Игоревне было все хуже. Она страдала не только от боли, но и от сознания, что после той озорной и красивой городской плясуньи на кровати лежит больная женщина с пожелтевшим лицом и всем, кто окружил ее, наверно, очень неприятно и досадно от этого.
А Родион стоял под яблоней и каждым нервом ждал чего-то, прислушивался. Просунув большую белолобую голову в дыру в заборе, протяжно мыкнул теленок, где-то вскрикнул колодезный журавль, тяжело упало яблоко в траву — и такая печаль была в этом, что не хотелось жить. Вдруг кто-то отчаянно заплакал в доме — в ту же секунду рванулся и Родион. Он увидел пляшущий затылок отца и тыльные стороны ладоней вместо лиц. Одно только лицо матери оставалось открыто, и было оно снова красивым и безразличным. Родион отшатнулся и машинально закрылся руками, как от резкого солнца.
Шатаясь от жгучей пустоты в теле, он вышел за калитку и побрел по дороге — его никто не остановил. За ним доверчиво цокал заблудший теленок…
3У человека, припавшего к окну поезда, всегда есть приятное преимущество думать, что тот, кто с ласковой грустью машет ему рукой в пути, что сонные переезды и полустанки с одинокими лоточницами на перронах, рубленые деревеньки и легкие погосты на холмах существуют в мире только потому, что существует он сам. Это успокаивает ум и возвышает печаль.
Уже третьи сутки мелькали в глазах Родиона осенние картинки полевой России. Они утомляли его своей пестротой, и он, забравшись на третью полку, листал журналы. Вагон распирало от крика и смеха. Бритоголовые призывники целый день мотались по проходу, опасно высовывались в окна и кричали «до свиданья» каждому встречному. Проводницы то и дело жаловались лейтенанту, начальнику вагона: разбито окно в туалете, сломан столик, разорваны два матраца и подушка. Лейтенант для порядка объявлял наряды самым буйным, и те с небрежной радостью драили полы.
Двое суток жили всухомятку. Шныряли на остановках по перрону, подчищали все ларьки и буфеты. Родион почти ничего не ел. Ребята силком стаскивали его с полки и запихивали ему в рот колбасу и фрукты. Родион, краснея, заверял их, что сыт и имеет деньги, но они только смеялись и считали его чокнутым.
— Брось хандрить, парень. По девчонке тоскуешь? Мелко, брат.
Родион устало усмехался и снова лез на полку — ведь не обнажаться же перед ними, пусть думают о нем, как им выгодно. Все эти дни он жил памятью о доме. Ему было мучительно жалко отца — теперь он один в пустой и угрюмой, как музей, квартире среди тяжелых книжных полок и бронзовых статуэток. Никогда не думал Родион, что отец так любит маму, — он был снисходителен к ней и часто раздражался, когда мама звонко смеялась, запрокинув красивую голову. Вернувшись с похорон, отец закрылся в кабинете на ключ. Щелчок замка оглушил Родиона, привел его в такой ужас, что он заколотил в дверь кулаками, — отец вырос с черным, чужим лицом.
— Думаешь, на ремне удавлюсь? Черта с два! Приучай себя к мысли, мой мальчик, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Жить надо. Вот только как? Давай вместе думать, как нам жить дальше?..
Они простились скупо и сухо. Отец сунул ему в карман десятку, хмуро потрепал по щеке.
— Не забывай утешить своего старика письмом.
Он долго махал Родиону шляпой, пытаясь улыбнуться, но губы его непослушно танцевали, и тогда он резко повернулся и зашагал в толпу…
На шестые сутки в душном вагоне запахло Сибирью. Отяжелевшая от сигаретного дыма и пота голова закружилась, когда повеяло в окно тайгой и снегом. В Красноярске вся гололобая братия дружно высыпала на вокзал, и в их гомоне тонули зычные приказы рябого майора, начальника поезда. У троих призывников он уже разбил о рельсы бутылки с вином. Соседи Родиона все-таки ухитрились пронести в вагон две бутылки водки. Во время сабантуя Родион с острым любопытством наблюдал за ребятами, и ему становилось весело. За эту неделю он так хорошо изучил своих юных соседей, что знал о каждом до седьмого колена, и удивлялся тому, как легко и доверчиво они обнажались. Раньше Родион думал, что молодость дышит едиными категориями, а сейчас вдруг почувствовал, что не может настроиться на волну этого восхитительного невежества и разницу в шесть лет нельзя обмануть. Мальчишки старались выглядеть друг перед другом как можно грубее и приспособленнее к жизни, изрекали всякие глупости, и это доставляло Родиону удовольствие, которое он вначале определил как снисходительность старшинства и лишь потом как ощущение своего внутреннего превосходства.
Когда вечером лейтенант крикнул, чтобы третье купе выделило двоих дневальных для получения пищи, все почему-то сразу посмотрели на Родиона, — он несдержанно усмехнулся и спрыгнул с полки. Кухня была в хвосте поезда, в товарном вагоне. Возле него уже кишмя кишели призывники, гремя железными термосами и бачками. Лейтенант что-то крикнул своим дневальным и влился в толпу. Родион ринулся за ним, но его тут же оттерли и выпихнули назад. Родион попробовал второй раз, видя, что ребята уже пробились к раздаточному окну и зовут его. Краем бачка он нечаянно стукнул по локтевой косточке носатого парня с шишкастым черепом. «Куда прешь без очереди?» — взревел парень и толкнул Родиона в грудь. Родион, может, и не упал бы, но кто-то сбоку сильно ударил его носком ботинка чуть пониже поясницы, и он плюхнулся в снег. Еще стоя на четвереньках, Родион почувствовал обжигающий стыд. Но более отвратительным был страх подняться и ненароком встретиться с глазами обидчика. Ему казалось, что на него смотрит все человечество, даже отец, и все видят, как ему стыдно и больно. Что-то пакостное тут же погасило в нем вспыхнувшую ненависть — он медленно поднялся и, не оглядываясь, пошел в свой вагон.
Ужинать он не стал, забрался на полку и слушал, как с усмешкой шепчутся о нем ребята. Ночью его прорвало — никогда в жизни он так не плакал и в жалости не презирал себя. Чувствуя голод, он слез с полки и тихонько, чтобы не разбудить ребят, принялся доедать остатки перловой каши. А когда поднял голову, вздрогнул: Юрка Сомов, улыбаясь, наблюдал за ним.
— Сдохнешь ты, парень, в своей гордости, — усмехнулся Юрка и полез в рюкзак. — На вот колбасу копченую погрызи. Сала хочешь?
— Нет. Ложись спать, мальчик.
— Ишь ты. Словами ты умеешь драться. А толку-то, если жизнь в рожу бьет? Зачем сбежал тогда? Ребята уважали тебя, а ты… И заступаться не хотелось после этого.
— Ты думаешь, кулаком и словом движет одна и та же сила?
— Уверен. Если тебя ударили по щеке, ты должен возвратить унижение.