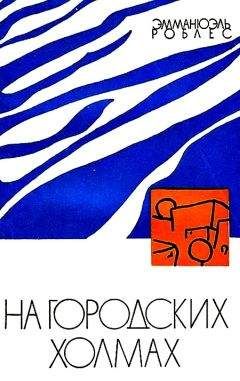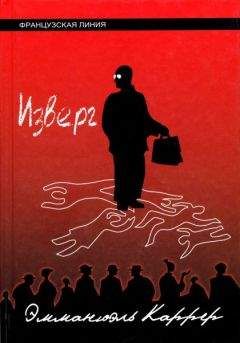Эмманюэль Роблес - Однажды весной в Италии
Филанджери сидел на табурете у изголовья каменщика и пытался понять, связан ли перерыв в допросе, сделанный комиссаром Риерой, с тем волнением, которое царило во дворе, шумом мотора, шарканьем ног, какими-то приглушенными возгласами. Смеркалось, в окно был виден кусок стены, покрытый тенью. На этой стене висело вылинявшее полотнище с выведенной черными поблекшими буквами фразой из какой-то речи Муссолини: «Fare della propria vita il proprio capolavoro»[16]. Но что могли значить для старого, попавшего в беду человека эти слова диктатора? И что могли они значить для самого Муссолини? Филанджери не стал больше раздумывать над этим, ибо его внимание вновь привлек необычный шум в коридорах. Что нарушило суровый порядок этого дома? Он видел, что караульные нервничают, бегают с места на место, лихорадочно переговариваются. Это тревожное напряжение выводило из себя Филанджери еще и потому, что каменщик около него лежал неподвижно, как труп, так что казалось, будто он умер. Это был человек лет тридцати. Он почти ничего не сказал с тех пор, как Филанджери посадили сюда. Его зверски били в живот. Он был слишком слаб, чтобы подняться, и мочился кровью прямо на койку. Филанджери знал только то, что у несчастного трое детей и что его схватили по доносу. «Сделать шедевр из собственной жизни». Он все еще думал об этой фразе, когда шум голосов из коридора стал слышен уже в камере. Скульптор поднялся и посмотрел на дверь. С силой толкнув створку двери, вошел часовой в каске, ремешок которой был крепко стянут под подбородком, отчего лицо его приобрело холодное и злое выражение. Два других солдата остались немного позади. Филанджери их ни разу не видел. Они чуть пошатывались, глаза у них были воспалены, и он подумал, что они пьяны. Первый, направившись к каменщику, заорал: «Вставай, Фоска!» Но тот не отвечал, и часовой стал трясти его за плечо:
— Сказано тебе, вставай!
Каменщик застонал и попытался сесть.
— Ведь ты Фоска, да? Фоска Амадео? Так? Пошевеливайся, кретин!
Филанджери охватил ужас, но он взял себя в руки. Однако он не знал, как вмешаться. Часовой был в ярости, и его грубость парализовала старика. Чуть подавшись вперед, он сказал:
— Но ведь он не может шевельнуться!
Часовой повернулся:
— А ты, старый хрыч, заткнись! Тебя не спрашивают. Будешь говорить, когда спросят. Понял?
Глаза у него злобно блестели.
— Он у нас пойдет на земляные работы, — сказал добродушно один из солдат. — Ему тоже надо там потрудиться.
— Но он же на ногах не стоит, — пробормотал Филанджери.
— Разве? Сейчас увидишь! — завопил часовой. — Я одну штуку знаю. Он у меня сразу станет шустрым, как лань!
Одним движением он сбросил с плеча винтовку и ударил каменщика прикладом в поясницу. Тот упал на спину, глаза его побелели, рот стал влажным.
— Пошевеливайся! От тебя еще и разит, скотина!
Свободной рукой солдат схватил несчастного за шиворот, но каменщик сопротивлялся — скорее по инерции, чем сознательно.
— Подлюга! — заорал солдат.
В бешенстве он едва не стащил его с койки, и каменщик, потеряв равновесие, свалился на пол; одна его нога продолжала судорожно дергаться. Двое других солдат с отвращением взирали на эту сцену, словно арестованный разыгрывал перед ними нелепую комедию, каких они уже навидались.
— Стеллио, скажи ему, что мы сходим за каретой!
— Или принесем ролики!
С тяжким усилием, перекосившим все его лицо, каменщик едва поднялся с пола, опершись о койку левой почти лилового цвета рукой. Стоя он выглядел еще ужасней — сгорбленный, с отвалившейся челюстью, похожий на отупевшую обезьяну. Лицо у него обросло бородой. Нос распух. Ноздри были полны запекшейся крови.
— Вот и хорошо. Ну что, видишь? Стоит только захотеть…
— Пошли! — сказал солдат по имени Стеллио.
Легкий толчок заставил каменщика рухнуть на койку.
Он осклабился точно в улыбке; можно было подумать, что он доволен тем, как ему удалось разыграть этих людей.
— А ну двинь ему по морде, Стеллио!
— Хватит, поиздевался над нами!
— Ткни его штыком в задницу! Сразу побежит, вот увидишь!
— Теперь вы сами убедились, — сказал Филанджери. — Я ведь вас предупреждал.
— А ты пожалеешь, что суешься не в свое дело! — зарычал Стеллио, ткнув в него пальцем. В своей блестящей каске он напоминал чудовищное насекомое.
— Если вы оставите его в покое, — сказал Филанджери, — я готов его заменить. Хоть я и стар, но с лопатой и киркой справлюсь лучше, чем он.
Солдаты — все трое — разом повернулись к нему и внезапно застыли, будто у них перехватило дыхание. Их странно пронзительный взгляд встревожил Филанджери еще до того, как он осознал, что вошло в комнату вместе с ними. Воздух стал плотным и душным. Он не только глушил все звуки, но создавал впечатление, будто между Филанджери и солдатами что-то плавно покачивается, незримое, напряженное и опасное, как змея, стоящая на хвосте.
Стеллио шевельнулся и подошел ближе.
— Ты тут не значишься, — сказал он, и звук его голоса как будто потек к тому месту, где стоял Филанджери. — Хотя ты бы справился лучше.
— Ну, это уж точно! — сказал другой. — Этого, по крайней мере, нести не надо.
— Он хоть и старый, но гляди, какие ноги!
Очевидно, они подбадривали друг друга, и Филанджери стало страшно. Большое зеркало в глубине комнаты отражало тусклый, вечерний свет. Стеллио сказал: «Нужно-то определенное количество, а остальное неважно», и старик понял, что речь идет о древнейшей формуле, перешагнувшей через века, столетиями звучавшей среди обширных топей и бескрайних пустынь.
И снова зеркало отражает, словно конец рода людского, эти окаменевшие лица и его собственное распухшее от бессонницы лицо с блестящими глазами.
Это он — этот старик, и жалкий взгляд затравленного животного — это его взгляд. Он всего лишь человек. И жизнь у него всего одна. Разум его объят страхом, страх обрушился на него, как огромная змея, что бросается с высокого дерева на свою жертву и обвивается вокруг нее кольцом, чтобы задушить насмерть.
— Ну что? — спросил один из солдат и повернулся к нему. Филанджери подумал, что настало время, что он, как видно, достиг конца длинного, очень длинного пути и уже никогда не вернется обратно. Он подошел к каменщику, который лежал навзничь, подогнув ноги, кажется, без сознания. На тюфяке виднелись темные пятна. Филанджери поглядел на это изменившееся лицо, схожее с японскими масками, в которых гротескное величие тесно сплетено с глубоким страданием, но не физическим, а душевным.
Потом он молча вернулся на свое место с ощущением, будто высокий воротник свитера чудовищно сжимает ему горло. В верхней части зеркала свет рассеивался в мельчайшие сверкающие лучи, словно длинная серебряная рыбка безвозвратно уходила в подводную глубину. Солдаты глядели на него из-под касок, не спуская глаз. И Филанджери почувствовал, что в него вошла тень, ее черное пятно ширилось внутри, распространялось все дальше и дальше. И вот она уже накрыла его сердце. Какой-то звук заставил его вздрогнуть. Каменщик в полузабытьи вытянул ноги. Он потерял башмак. Голая нога задвигалась, такая же живая и человеческая, как и лицо. Филанджери поднял голову и прошептал: «Пошли». Можно было подумать, что он обращается к зеркалу.
В тот же день, 24 марта, Сент-Роз после непродолжительной прогулки вернулся в Париоли из центра города, куда он ходил, чтобы разобраться в обстановке. Лица у прохожих были мрачные. Сент-Роз позвонил Мари по телефону, желая хотя бы услышать ее голос, но Мари была занята по службе и не могла с ним встретиться. День кончался; по улицам мчались военные машины. Говорили, что ночью Гитлер отдал приказ в ответ на покушение, совершенное накануне на виа Разелла, за одного убитого эсэсовца казнить десять римлян. Такое решение обрекало на смерть триста человек. Говорили также, что только в одной тюрьме Реджина Коели будет расстреляно сто восемьдесят заложников, а остальных возьмут в полицейских участках. Чтобы избежать весьма опасной виа Фламиния, Сент-Роз направился через сады Пинчо, но в этот час даже сады внушали опасение — там было полно патрулей. Он шел по аллеям, напрягая зрение и слух, и вздохнул свободней, лишь когда достиг наконец виа деи Монти Париоли. За Филанджери он не тревожился. По телефону Мари сказала, что утром получила добрые вести от «родственников» — это слово у них означало старого скульптора.
Дома он узнал от привратника, что синьора уже была. Это показалось ему странным: она сама ведь условилась с Сент-Розом, что их следующее свидание состоится послезавтра. Если здесь нет ошибки, то, может, Лука… При этой мысли Сент-Роз почувствовал, что внутри у него все запылало.
— Когда же она была?
— Сразу после вашего ухода.
— Она поднималась наверх?
— Да.