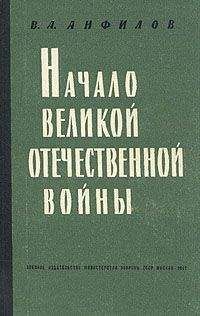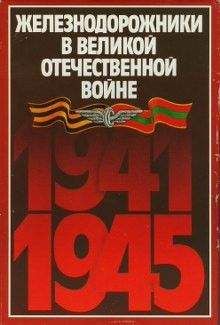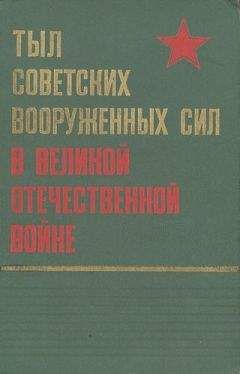Владимир Малахов - Жили мы на войне
Стою, посматриваю по сторонам и замечаю: из-за камней, из подвалов робко выглядывают ребятишки. С кастрюлями, чашками, кое-кто с бидонами даже. И хочется им к кухне подойти и боязно.
Солдаты тоже увидели ребят. В нерешительности на месте затоптались. Гляжу, Заря не выдержал, поманил пальцем одного мальчишку, к себе зовет. Тот испуганно на своих оглядывается, решает, идти или не идти. Но правду говорят: голод не тетка. Решился, подошел. Заря его впереди себя в очередь поставил, руку на плечо положил. За Зарей Джанбеков другого мальчонку подозвал, тоже в очередь определил. Ну, а потом ребята осмелели, сами подходить стали. Солдаты и их пристроили. И увеличилась очередь вдвое. Ну, а за ребятишками старики, старухи потянулись. Посовещались о чем-то между собой, тоже очередь организовали. В сторонке. Дают понять, что очень-то не рассчитывают. Мол, если останется сколько, их счастье. На большее не претендуют.
Только вижу я: повара наши заволновались. В первые минуты степенно вели себя, даже посмеивались, а как такая картина образовалась, их трясучка взяла. За головы хватаются, передним в очереди объясняют, что у них супа на всех не хватит.
Дело серьезное. Подошел я к кухне. Повара офицера увидели, бросились ко мне.
— Что делать? — спрашивают. — Мы на немцев не рассчитывали, у нас только для своих. И без добавок.
И я не знаю, как поступить. Свои солдаты голодные. Война в Берлине не кончается, нам надо дальше на Запад двигаться. А что за солдат, если он голодный. Стою, думаю. Поднял голову, встретился взглядом с глазами ребятишек и такую в них мольбу прочитал, что дрогнуло мое сердце, чем-то теплым его захлестнуло. Хотел уж скомандовать, чтобы отдали этот суп проклятущий голодным мальчишкам, а сами как-нибудь ночь перебьемся. Благо, не в первый раз, привычно. Но тут увидел комбата и обрадовался: он старший, ему и решать. Подошел и говорю:
— Вот какая карусель получается. Что же нам делать-то? Незваные гости, но дети же… хоть и немецкие…
Сдвинулись брови у комбата.
— Они прежде всего человеческие дети и за фашистов не в ответе. Тут никакого вопроса нет. Вот с солдатами как быть?
Мне хорошая мысль пришла.
— Товарищ комбат, — говорю, — солдатский обед, им и решать. Как скажут; тому и быть.
— Дело, — одобрил комбат. — Пусть солдаты решают.
Подошел он к кухне, забрался на подножку и с этой трибуны стал речь держать.
— Такое дело, солдаты. Нас вместе с немецкими ребятишками много, а вместе со стариками и старухами, старыми людьми то есть, еще больше. И судя по всему, они несколько дней не жрали, не ели, то есть. Я извиняюсь за такие выражения, отвык по-хорошему говорить. Война кончится, научимся. Суть вам ясна. Вопрос: как быть?
Над развалинами тихо стало. Задумались солдаты. Я понимал их: только что на праздничный суп нацелились, уже и запах учуяли, а тут такое.
— Полкотелка немцам, полкотелка нам, — робко предложил кто-то.
Комбат вопросительно на поваров поглядел. Те качают головами — все равно не хватит, мол.
— Все равно не хватит, — сказал комбат.
Опять тихо стало.
— Не знаю, как другие, — сказал Заря, а я свой паек ребятишкам отдаю.
Сказал и отошел в сторону.
— И я, — сказал Джанбеков. И тоже в сторону.
За ними другие потянулись. Немецкие ребятишки с удивлением головами крутят, ничего не понимают. Старики и старухи зашептались между собой. Дети к кухне не подходят. Не поняли, в чем дело, стоят, озираются. Солдаты им знаки дают — идите, мол, за супом, мы отказываемся. Тут повара закричали.
— Сами отказываетесь, по доброй воле, — предупреждают. — Потом не говорите, что мы вас в Берлине-логове голодными оставили. Учтите.
— Давай, давай, — откликаются ребята. — Не ваша забота. Знай — разливай…
Заработали черпаки, зазвенели котелки, чашки, бидоны, а мы восвояси отправились.
Наш взвод «сидор» Сидорова немного поддержал, а как другие из положения вышли — не знаю. Может, и у них свои Сидоровы были.
В КАРУСЕЛИ
Уже в самом конце войны километрах в двух от Эльбы такая карусель закрутилась, что нам, средним командирам, ничего понять невозможно было. Говорили, что мы кого-то окружили, но нас, в свою очередь, тоже окружил кто-то, а потом всех — и нас и немцев — окружили два наших фронта.
А вокруг радовалась весна. Воздух был настоян на сосне, трава, как шелк, стелилась под ногами, даже неудобно было ступать на нее солдатскими сапожищами.
Вначале немцев мы и не заметили: они окопались на опушке леса. Но раздались выстрелы. Наши минометчики быстро установили свои «самовары» и сразу же накрыли противника. Фашисты в то время совсем не те были, что в первые годы войны. Мы думали, что они сейчас же поднимут руки и начнут сдаваться в плен. Или побегут. К нашему удивлению, не произошло ни того, ни другого.
Немцы двинулись на… нас. Что за чертовщина? На всякий случай дал команду развернуть пулеметы. Я тогда уже командовал ротой, а в ней почти все новички были. Как катили «максимы», подняв стволы, так и развернули их и ну палить. С верхушек деревьев ветки посыпались. «Что, — думаю, — происходит?» Пулеметы палят, немцы бегут, не падают, а тут еще сосновые иголки все лицо обсыпали. Глянул наверх, потом на пулеметы и все понял. Хотел сам лечь за пулемет, но глянул на немцев, а они сбились в кучу и кричат что-то. Скомандовал — прекратить стрельбу. Стали прислушиваться мы, чего немцы орут.
— Может, они своих на помощь зовут? — высказал предположение кто-то.
Вмешался Заря.
— Да что вы глухие, что ли? Ревут же немцы, плачут то есть.
Прислушались — в самом деле плач. Осторожно подошли. Глядим, стоят перед нами ребятишки лет по двенадцати-тринадцати, размазывают кулаками слезы и ревут во весь голос. Перевязали мы раненых; успокоили, как могли; показали, куда идти в плен, и двинулись дальше.
— Хлипкий у них фольксштурм, товарищ лейтенант, — засмеялся кто-то.
Заря долго шагал молча. Потом уж, как бы про себя, заметил:
— Хорошо, что мы с тобой, лейтенант, сами за пулеметы не легли.
И опять надолго умолк.
«ЧЕЧЕТКА»
В один из последних дней войны вышли мы к широкой асфальтированной дороге. Залегли. Окапываться не стали. В то время только и разговоров было: «Капитуляцию подписать должны», «Гитлера в плен взяли», «Конец войне».
Лежим мы и ждем, когда нам официально о победе объявят, о полном разгроме фашизма. Сумерки спустились.
Только разложили мы свою снедь, вдруг слышу: вроде бы где-то в стороне автомобильный мотор постукивает. Все ближе, ближе. Подхватился я — и к дороге. Гляжу — метрах в ста пятидесяти по асфальту шпарит немецкая легковушка, а в ней что-то значительное поблескивает. «Мать честная, — мелькнула мысль, — вот повезло в самом конце. Не иначе генерал немецкий драпает, возьму его в плен — меньше ордена не дадут».
Бегу к дороге, расстегнул кобуру, выхватил пистолет и, как только машина поравнялась со мной, выпустил по скатам всю обойму.
Машина завиляла и остановилась. Перезарядил ТТ, пригляделся и обмер. В машине-то наш генерал сидит. Командир дивизии. Автомат на меня направил и молчит. «Убил, — думаю, — дурацкая башка. Своего командира дивизии убил».
Вышел генерал из машины и громко, как бы у леса, спрашивает:
— Кто стрелял?
Я от волнения слова выговорить не могу.
— Кто стрелял? — еще громче спрашивает генерал.
Делать нечего, выхожу.
— Я, — говорю, — товарищ генерал, стрелял.
Помолчал генерал, потом протягивает руку.
— Дай пистолет.
«Все, — думаю, — пристрелит на месте. Имеет полное право». Протянул пистолет. Он прицелился в какую-то кочку и точно все пули вогнал в нее. И вернул пистолет.
— Какое училище закончил? — спрашивает.
— Минометно-пулеметное.
— Плохо вас там стрелять учили.
Понял я, что самое страшное позади, и осмелел немножко.
— Никак нет, — говорю, — хорошо учили. Только больше из пулемета.
— Ну и что, умеешь? — уже улыбается генерал.
— «Чечетку» смогу.
Надо сказать, что в войну особым шиком считалось умение выбить пулеметом «чечетку».
— А ну, покажи.
Подкатили пулемет, «чечетка» у меня вышла отменная.
Повернулся командир дивизии, сел в машину и тут приказал:
— Трое суток домашнего ареста за плохую стрельбу из пистолета.
— Есть трое суток домашнего ареста, — отвечаю.
Укатил генерал. Пошел я к командиру батальона, рассказал все.
— Куда же я тебя посажу? — развел руками капитан. — Ладно, после войны отсидишь.
Прошла весна, лето и осень. От самой Эльбы до Орши прошагали мы пешком, возвращаясь домой. Устали страшно. Вспомнил тут я о наказании генерала, пришел к комбату, потребовал: «Сади».
— Отдохнуть захотел, — рассмеялся комбат. — Ну, ладно, сиди.