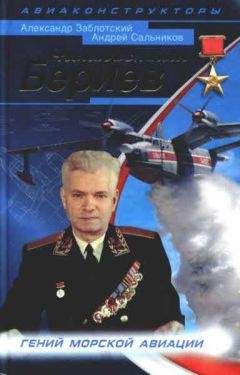Олег Сидельников - Пора летних каникул
В командиры отделения дали нам белобрысого младшего сержанта с веселой фамилией Миляга. Грудь он выпячивал колесом и все время косился на нее — любовался орденом Красной Звезды. Взводом командовал лейтенант — тот самый, что подкатил на «эмке», ротой — хмурый подполковник, косая сажень в плечах, а батальоном — старичок генерал. «Красноармейский телефон» сообщал о старичке удивительную и трогательную всякую всячину. Генерал, рассказывали, здорово воевал в гражданскую, а на этот раз оплошал — растерял дивизию, щтаб, пушки. Находились очевидцы, утверждавшие, будто видели, как он плакал — жалел дивизию. Другие говорили, что у него погибла семья, поэтому он и плакал.
Что бы там ни было, а старичок генерал рвался в бой.
Младший сержант Миляга оказался боевым парнем. Даже слишком боевым. Под его командой отделение бегало, высунув язык, за гранатами, лопатами, сухим пайком и ящиками с поллитровками. Даже противогазами нас обеспечил, будь он неладен! В руках у него все так и горело. В пять минут обучил нас пользоваться ручными гранатами, затем вытащил из ящика поллитровку; и объявил с энтузиазмом:
— А вот это перед нами гроза фашистских танков, елки-палки! Вы видите перед собой стеклянную тару емкостью в ноль пять десятых литра. В ней горючий бензин, а сбоку приделаны серники и еще вата-фитиль. Чиркни по серникам спичечным коробком, зажги фитиль и кидай танку на задницу — вмиг сгорит, елки-палки! Есть еще бутылки с самозагорающейся жидкостью, но их пока не имеется в наличии. Да и морока с ними. Кокнешь случайно бутылки — сам сгореть можешь. А эти, с бензином, лучше. Вопросы есть?
Вилька задал вопрос. Он поинтересовался, каким образом угодить танку по заднице, если она у него сзади, а не спереди.
— Чудак-человек, — досадливо поморщился отделенный, — соображать надо. За кустиком схоронись, в окопе притаись — пропусти его. Окоп — штука верная. Переползёт танк — шуму много, а ты, елки-палки, целенький, как огурчик, — и ему по заднице? Понял? По мотору норови.
Все у Миляги получалось легко и просто: танк наползает — жги; пехота автоматным дождем шпарит — бей гансов на выболи особенно не дрейфь, потому как строчат они из своих «шмайсеров» с пуза, в белый свет, как в копеечку; не особенно, паникуй, ежели кто заорет: «Братцы, окружают!» — фашист любит «на бога» брать, просочится пяток автоматчиков в тыл и ну тарахтеть, видимость создавать.
— Короче говоря, — отделенный до предела выкатил грудь, аж побагровел, — фашист, конечно, серьезный противник, однако штычка русского не уважает и вообще против нашего бойца жидковат. Фашист — это вам не шюцкоровский белофинн. На себе испробовал.
О финских солдатах Миляга был высокого мнения, хотя и они, как выразился отделенный, «слабоваты в коленках против нашего брата».
С командиром отделения нам явно повезло. Бойцы повеселели. Только летчик всех сторонился, хмурил густые брови да изредка поскрипывал зубами.
После обеда всухомятку батальон построили буквой «П», в середину буквы зашли старичок генерал и бритоголовый очкастый военный — в петлицах три шпалы, на рукавах звезды. Генерал предоставил слово бритоголовому, старшему батальонному комиссару.
Я думал, раз комиссар, то он произнесет громовую речь, рванет себя за ворот гимнастерки и покажет волосатую грудь. Но комиссар заговорил просто, по-домашнему. Не знаю уж чем, но напомнил мне он папу.
И ведь ничего особенного он не высказал. Просто объявил, что времени в обрез, а там (комиссар ткнул короткопалой рукой в сторону дороги) пробиваются из окружения части шестой и двенадцатой армий. Им нужно помочь. Два сводных батальона уже на марше. А будут ли еще подкрепления — на воде вилами писано. Ждать больше нельзя. Обидно, конечно, бить врага растопыренной пятерней, а не кулаком, но ничего не поделаешь. Обстановочка. Придет время — треснем и кулачищем. Коммунистам и комсомольцам показывать в бою пример. Что касается беспартийных, генерал и он, комиссар, на них надеются так же, как и на коммунистов и на комсомольцев.
Закончил речь старший батальонный комиссар совсем без блеска. Снял очки, сощурился:
— Вот что, товарищи бойцы и командиры. Очки втирать не мастер. Силен фашистский зверь, шапками его не закидаешь. Поэтому прошу воевать серьезно, без дураков. — Он опять нацепил очки на крупный нос и вдруг улыбнулся — Уйдем мы сейчас отсюда. Чем скорее уйдем, тем лучше. Откровенно говоря, я сам поражаюсь, как фашистские «юнкерсы» нас здесь не расколошматили. Так что давайте-ка уйдем отсюда, подальше от греха.
Батальон с приданными ему пушчонками — бойцы называли их «сорокапятками» и «прощай, родина» — гигантской гусеницей полз навстречу отдаленным орудийным раскатам. Шли молча. Я думал о странном комиссаре. Нарочно он снял очки, когда говорил, что не мастер очки втирать, или это случайно вышло? И откуда он такой домашний? Ничего толком не сказал, а убедил.
В чем убедил? Неизвестно. Но теперь все понятно. Это он здорово сказал — воевать без дураков.
— Юрка, — неожиданно произнес Глеб, — у меня вопрос. Вот в газетах пишут, что смелого пуля боится, смелого штык не берет. Как это понимать?
— Так и понимать.
Вмешался Вилька:
— Глебчик, не мудри. Все ясно, как апельсин. Наложил в штаны — получил пулю в лоб. Отсюда мораль…
— Чепуха все это! — Глеб нетерпеливо тряхнул головой. — Выходит, только трусы погибают? Я, скажем, не вернусь с войны… потому что трус?
— О тебе напишут: пал смертью храбрых, геройски сложил голову, — Вилька балагурил, однако было видно, что удивительный наш Глеб озадачил его. — И вообще… катись ты к аллаху со своими философиями.
— Я серьезно, ребята. Боязно погибать, когда так пишут. И обидно… за всех убитых.
Глеб умолк. Мы поняли, кого он имел в виду. Дышать стало труднее, заныли стертые сапогами ноги. После долгого молчания Вилька сказал в сердцах:
— Тебе бы, Глебчик, директором кладбища работать. Самое подходящее местечко. Больно ты жизнерадостный, аж плакать хочется.
— Я думать люблю, — возразил Глеб. — На то и голова, чтобы думать.
— Индюк тоже думал…
— Эге! — послышался вдруг знакомый голос. — Надеюсь, дело не дойдет до дуэли?
Мы оглянулись и увидели комиссара. Он шел в двух шагах от строя, держа фуражку в руке, и улыбался. Как он очутился возле нас, подкрался, что ли?
Комиссар объяснил свое появление:
— Решил, знаете ли, пробежаться, глянуть на своих орликов, а тут, слышу, — дискуссия на волнующую тему. Любопытно стало. Дай, думаю, наберусь ума-разума. И на тебе — про индюка байку узнал. Даром время потратил.
Вилька покраснел.
— «Разрешите, товарищ старший батальонный…
— Можно и просто — товарищ комиссар.
— Угу… Значит, объясните, пожалуйста, а то дружок мой, — Вилька кивнул на Глеба, — начитался в газетах пламенных призывов и загрустил.
Комиссар рассмеялся. Лицо его, круглое, доброе, как у толстяка-повара, покрылось морщинками.
— Загрустил, говоришь, от пламенных призывов? Ха-ха… Ловко. Бывает. В жизни всякое случается.
— А что? — отозвался Глеб. — И — загрустишь. Или, товарищ комиссар, врут газеты? Тогда другое дело.
— Остер, остер на язык, — все еще посмеиваясь, комиссар с интересом посмотрел на Глеба. — Врут, значит, говоришь. Как, товарищи, — обратился он к бойцам, прислушивающимся к занятному разговору, — брешут газеты, а?
Красноармейцы оживились:
— Не должно быть, товарищ комиссар.
— Иной раз и загнут малость.
— От ошибок разве кто заворожен?
— Именно, — подхватил комиссар. — Золотые слова. Тут уж Глеб не утерпел; сказал сердито:
— Пишут всякую чепуху… „Смелого пуля боится, смелого штык не берет!“ Зачем мозги крутить?
— И правильно делают, что так пишут. Прочтет боец лозунг и забоится трусить. Разве плохо? Врать, ребятки, я не горазд. Скажу вам под большим секретом: на войне, знаете ли, иногда убивают. И не только трусов. К сожалению, и храбрецы головы кладут. В чем, однако, разница? Заячья душа с позором отлетает, раз-два — и лапки кверху. Другое дело смелый боец. Он сражается, громит врага. А если погибнет, так с честью. Вот почему ему не страшна пуля и штык его не берет. Уразумели?.. Ну и слава богу, которого, как известно, нету. — Комиссар вытащил большие карманные часы, всполошился — Заговорился я с вами… Спасибо за компанию. — Он прибавил шагу и вдруг, оглянувшись, подмигнул нам на прощанье — А насчет газет… — Выходит, не врут они? Все тютелька в тютельку. Смелому куда как привольней жить, верно?
Комиссар ушел, а бойцы долго еще толковали его слова. Очкарик (комиссар уже обзавелся ласковым прозвищем) всем понравился.
— Мужи-ик! — коротко охарактеризовал его Вилька, вкладывая в это слово огромный смысл.
— „Забоится трусить“, — в раздумье повторял Глеб комиссаровы слова. — Толково сформулировал. Говорят, — секретарь райкома…