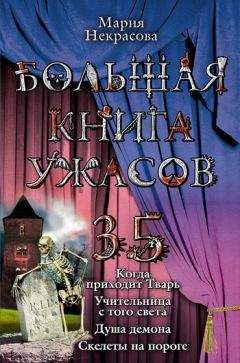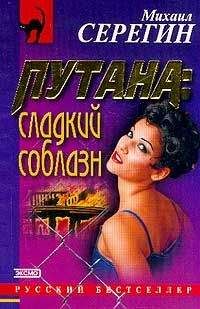Михаил Крикуненко - Планета Райад. Минута ненависти или 60 секунд счастья
Потом она стала расспрашивать о том, что сейчас носят женщины в Москве. Я сказал, что плохо в этом разбираюсь, и предложил посмотреть спутниковые каналы, выход на которые у нас есть. Минут двадцать Ольга щелкала пультом, жадно вглядываясь в людей, мелькавших то в новостных программах, то в каких-то шоу. Наконец огорченно констатировала:
— Да, кажется, Маугли вконец одичал. Я отстала от жизни.
— Маугли? — переспросил я.
Она улыбнулась:
— Меня так дед маленькую называл, когда не слушалась. Говорил: «Вот упрямица! Вся в свое горское племя!» А когда слушалась, говорил, что вся в него.
Ольге пора возвращаться, и я проводил ее до площади перед КПП. На этот раз ее никто не ждет. По привычке она стала искать глазами грязно-белую «шестерку» Рустама. Мне стало тошно. Смогу ли я когда-то рассказать ей, что с ним случилось? Что это он, Рустам, убил ее подругу из соседнего подъезда. И что саму ее, и ее мать не тронули лишь потому, что шестнадцатилетний подросток, который между тем был безжалостным убийцей, испытывал к ней какие-то добрые чувства. Или просто не успели тронуть? Я вспомнил наглые глаза Рустама в последние минуты его жизни, когда он сказал: «Жаль, не успел добраться до всех своих соседок…» Нет, он не думал, что умрет в том подвале. Был уверен, что его отвезут в комендатуру или отдадут в руки местной милиции. Дьявольские огоньки, плясавшие в его глазах, говорили о том, что самые страшные его планы еще не осуществились, но он жаждет их воплотить. «Всех достанем», — что он имел в виду?
Лема согласился отвезти Ольгу.
— Постараемся не потеряться, — сказала она мне, садясь в машину.
— Что?
— В Москве, — ответила она. — Ты спрашивал.
* * *— Э, Асламбек, тащи сюда этих баранов, — говорит кому-то бородач с зеленой, арабской вязью, повязкой на лбу.
В лагере боевиков оживление. Из японского двухкассетника звучит национальная музыка. Кто-то напевает на чеченском. Некоторые танцуют, вскидывая локти в лезгинке. Смеются боевики громко, не боясь быть услышанными в горах. Значит, подразделений федеральных сил рядом нет. Тот, кого назвали Асламбеком, открывает деревянные створки зиндана — ямы, вырытой прямо в земле. Издалека яма сошла бы за погреб, в котором хранят сметану и молоко. Но боевики в зинданах держат людей. Из-под земли испуганно смотрят три пары глаз.
— Э, вихады, давай! — орет Асламбек в яму.
На свет выползают трое солдат. Босые, в окровавленных лохмотьях. У одного от побоев лицо распухло так, что не видно глаз. Его под руки ведут товарищи по несчастью.
Я проматываю пленку вперед в ускоренном режиме. Кассета была найдена в схроне боевиков вместе с новым, еще пахнущим типографской краской Кораном в зеленом переплете во время одной из зачисток в Старых Атагах. На днях мы были там с чеченским ОМОНом. Командир ОМОНа, Иса, кассету отдал мне, а Коран оставил себе. Сейчас я пытаюсь сделать из трофея сюжет, выбирая кадры, которые можно было бы показать чувствительной аудитории.
Какое-то время пленников избивают. Потом ставят на колени. Асламбек достает нож. Парни испуганно смотрят друг на друга. Судя по возрасту — срочники. Лет по девятнадцать-двадцать, не больше. Боевики что-то возбужденно кричат друг другу. Потом Асламбек берет за волосы пацана с распухшим лицом и приставляет нож к его горлу. Тот даже не сопротивляется, покорно ждет. Так ждут смерти, невообразимо устав от жизни. Двое других пленников смотрят на происходящее как на кошмарный сон, пытаются что-то объяснить боевикам, но те только гогочут. Под гогот и лезгинку Аслабмек начинает медленно резать горло мальчишке. Тот захрипел, задергался, захлебываясь собственной кровью. Издавая характерный булькающий предсмертный звук, на который способен только человек, которому перерезают горло. Какое-то время несчастный бился в конвульсиях. Потом затих. Асламбек под всеобщее ликование поднял отрезанную голову, держа ее за волосы, и издал дикий вопль. С отрезанной головы на землю струится кровь. Двое друзей убитого почти без сознания от ужаса. Они уже даже не просят о пощаде. Боевики смеются. Лезгинка играет. Бородач Асламбек навис над пленными солдатами. Они парализованы страхом. Он чувствует это, куражится. Запускает окровавленную пятерню в волосы одного из них. Тот зажмуривается. Но Асламбек под общий хохот тащит парня за волосы обратно к зиндану.
Я снова проматываю пленку вперед, стараясь не вглядываться в подробности происходящего на экране. Тошнота комом подступила к горлу. За годы чеченской войны и командировок в другие точки, которые на Планете называют «горячими», таких сцен на трофейных кассетах я пересмотрел километры. Вроде бы уже научился включать внутренний блок, защиту. К одному не могу привыкнуть. К легкости, с которой одни двуногие лишают жизни других. Без всякой на то необходимости. Чаще просто для развлечения. Кадры убийств подчеркивают хрупкость телесной оболочки, в которой живет человеческая душа.
Магнитофон с равнодушным жужжанием мотает пленку, на которой, точно смешные комики из немых фильмов, быстро двигаются люди. Они говорят лилипутскими голосами, и оттого все происходящее кажется ненастоящим. Нелепой кровавой драмой лилипутов.
Близких к помешательству, оставшихся в живых пленников бросили обратно в яму. Наверняка готовят продать в рабство или обменять. Убитый имел «нетоварный» вид. Кроме того, он сильно ослаб и, скорее всего, умер бы в ближайшее время от истощения. Но возможно, это было чем-то вроде кровной мести. Пленка прерывается. Я смотрю на дату записи — сделана месяц назад. Дальше снова побежала картинка. Идет колонна федеральных войск. Боевики снимают с небольшой возвышенности. Перешептываются на чеченском. В какой-то момент кричат: «Аллах Акбар!», и первый в колонне бэтээр взлетает почти вертикально от мощного взрыва, как если бы его хотели запустить в космос. Бэтээр разрывает на части. Бойцов, сидящих на броне, разметало в стороны. Тут же на колонну обрушивается шквал огня. Такие записи боевики делают для отчета, отрабатывая деньги.
Решаю не делать сюжет, а отдать кассету в прокуратуру. Может, вместе со спецслужбами им удастся вычислить местоположение пленных солдат. Если пленники еще живы, сюжет может им только навредить.
Собираюсь позвонить в редакцию, попросить о продлении командировки, но спутник запиликал сам. Звонит главный редактор телекомпании. Ее голос звучит встревоженно и как-то торжественно:
— Вы должны немедленно эвакуироваться из Чечни, — говорит она. — Прямо сегодня распространите везде, где можно, информацию, что уезжаете. По данным наших источников, из спецслужб в отношении вас и вашей группы готовится провокация.
— А я как раз хотел просить о продлении командировки, — говорю я.
— Об этом не может быть и речи!
— У меня не хватает материала для фильма. Нужно еще несколько дней, иначе все в корзину.
— Тогда так. Командировку мы вам не продляем. Но можете остаться до ее окончания. При этом немедленно распустите слух, что срочно уезжаете! Оставшиеся дни снимайте фильм, а уже завтра к вам прилетит Дмитрий Бондаренко. Он будет заниматься новостями.
Я уверен, что звонок главреда — проделки «Ну, погоди!». Догадка подтвердилась, когда вышел из кунга. Возле наших вагончиков крутится Зайцев, делая вид, что пришел по делу к кому-то из коллег. Увидев меня, изобразил фальшивую радость:
— Ну, скоро «дембель»?
— Увы, остаюсь еще на один срок! — я не смог отказать себе в удовольствии поиздеваться над Зайцевым. Конечно, он знает о звонке из редакции. Не он ли тот загадочный источник?
— Как остаешься? — выдержка подвела чекиста. Улыбку сорвало с лица прежде, чем он осознал, что спалился.
— Так, остаюсь. Москве нравятся мои материалы, хотят еще.
Побагровевший Зайцев зашагал в сторону пресс-центра.
— Не грусти, друг, на площади продают неплохой вазелин, — кричу ему вдогонку.
Скорее всего, Степан прав. Если бы действительно захотели серьезно наказать и свалить все на злую чеченскую пулю, давно бы сделали без шума и пыли. Зачем спектакль устраивать? Много чести для меня. Источник, скорее всего, придуман, чтобы просто напугать. Не с ума же они сошли? Но на душе мерзко. Осадок остался. А что, если и правда что-то затевается?..
Почему я не могу просто делать свою работу?
* * *Пьем молча. Не чокаясь и не закусывая. Никто даже не притронулся к шпротам и тушенке, наспех выложенным на черствый черный хлеб. Все прячут глаза в стаканах, стараясь не смотреть на Стаса, который говорит:
— Вот чурка косоглазая! Кинул, сука! Вот как таким верить? Ведь друг лучший, братом называл! Лыбится постоянно, глаза свои косые щурит, а что в башке у него, даже я, выходит, не знал!
В то, что Зула застрелился, верить не хочет никто. Не верю в эту нелепицу и я. Но все равно пью за него. За то, чтобы земля была ему пухом и чтобы в том, другом мире, о котором все здесь часто говорят или, уж точно, думают, ему было бы лучше. В этом мире он так и не прижился. Сегодня вечером Зула закончил свою страшную «коллекцию», нанизав на леску два последних, высушенных вражеских уха. Всего сто ушей от пятидесяти врагов, как и обещал, за убитого друга. Вымоченные в специальном растворе, неестественно маленькие, усохшие раза в два, но сохранившие все черты, человеческие ушные раковины. Издалека их можно было бы принять за ожерелья из бледно-желтых цветов, которые в Индии надевают на шеи во время праздников. Но, приглядевшись поближе, становится ясно, что подойдет это ожерелье, скорее, для праздника у Сатаны в Аду.