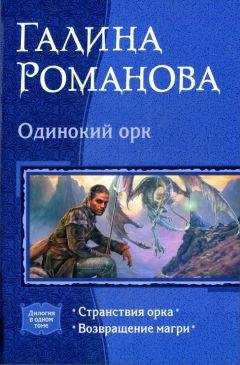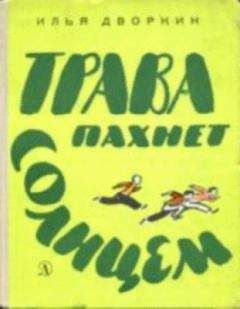Галина Василевская - Прощай, Грушовка!
Женщины кричали:
— Даже в тюрьме кормят!
— Здесь же не преступники!
Рядом со мной всю ночь плакала женщина. Другая женщина утешала ее:
— Хуже, чем всем, не будет…
— Дети у меня дома одни, пяти и семи лет. Что с ними будет?!
И она опять заплакала навзрыд.
В другом конце сарая говорил мужчина:
— Какой из меня работник? Я старый и больной. Мне уже шестой десяток. Если бы я был поздоровее да помоложе, видели бы они меня здесь! Давно б уже был далеко отсюда.
— Врешь ты, дядька. Какой же ты старый, если у тебя ни одного седого волоска нет? Шевелюра как у молодого.
— И эти собаки так подумали. А мой отец прожил восемьдесят шесть лет — и тоже ни единого седого волоска. Это у меня от отца.
— От отца или не от отца, а в дальние края поедешь…
Дядька кряхтит, не соглашается:
— Это мы еще поглядим.
Опять стало тихо.
Все прислушиваются, что делается за стеной.
Спустя некоторое время открылись ворота, вошли немец с переводчиком и женщина в белом халате. Немец заговорил по-своему, переводчик перевел:
— У кого короста, лишай, подойдите сюда.
Только одна женщина из угла начала протискиваться к воротам. Подошла, остановилась.
— Раздевайтесь, — сказала врач.
— Здесь? — удивилась женщина.
— Конечно, здесь.
Женщина начала нерешительно расстегивать на себе кофточку.
— Быстрее, быстрее, — поторапливала ее врач.
Женщина разделась, прикрывая руками грудь.
В сарае было холодно, сыро, немец, переводчик и врач одеты в пальто и плащи.
Женщина опустила вниз покрасневшее от стыда лицо и скинула все остальное.
— Повернитесь еще, еще, — командовал переводчик.
— Лишай, — сказала врач.
Женщине разрешили одеться. Не успела она застегнуть пуговицы на кофточке, как ее вытолкнули из сарая. Многие с завистью смотрели ей вслед.
— Больше нет заразных?
К переводчику подошла другая женщина, но не успела она объяснить, в чем дело, как ее прогнали.
Я бросилась к врачу, который уже собирался уходить.
— Тебеце у меня, — закричала я на весь сарай. — Тебеце!
Я понимала: это мой единственный и последний шанс. Иначе для меня отсюда только одна дорога — в Германию.
Я стала говорить переводчику о своей болезни, уверять, что мама вот-вот должна принести документы, подтверждающие туберкулез у меня. Худая, как щепка, посиневшая от холода, я плакала и кашляла. У меня горели глаза и, наверное, поднялась температура…
Подъехали две машины, крытые брезентом, и остановились возле нашего сарая. Переводчик обратился к немцу. Тот посмотрел на меня и буркнул в ответ.
Я подумала: сейчас меня вытолкают за ворота, как ту женщину, и я побегу домой. Кивком головы Антон показал мне на выход. В сопровождении полицая я вышла из хлева. Я радовалась, хотя понятия не имела, куда ведет меня полицай. Позади я услышала крики и плач. Людей загоняли в машины, сейчас повезут на вокзал, где их ожидают товарные вагоны. Оркестр на перроне будет играть марши, чтобы заглушить крики и плач.
Мы с Антоном дворами вышли к улице невдалеке от Западного моста и, не доходя до Ленинградской улицы, свернули в переулок налево. Антон подвел меня к двухэтажному кирпичному дому. Дом стоял без окон, даже рам не осталось. Мы вошли в дом, поднялись по лестнице на второй этаж, заглянули сначала в одну комнату, потом в другую. В комнатах гулял ветер. Печи были наполовину разрушены, возле них валялась груда кирпичей. Со стен свисали рваные обои.
— Видишь обои? — спросил Антон.
— Вижу.
— Ты их должна оборвать. Чтоб ни кусочка на стенах не осталось.
— Я не дотянусь.
Полицай вышел. Через минуту он вернулся и поставил на пол табуретку.
— Надо содрать все обои? — спросила я, оглядывая большую комнату и прикидывая, сколько времени займет эта работа.
— Не только в этой комнате, но и во всем доме, — приказал Антон и добавил: — Не вздумай бежать! Под землей найду. Запомни!
Он вышел. Я не знала, куда он направился. Может быть, в соседнюю комнату, а может быть, остановился за дверью, караулит меня. Я осталась одна в холодной пустой комнате. Что делать? Неужели отдирать эти противные обои, когда совсем близко, за этими дверями, свобода. А вдруг там стоит полицай? Этот противный Антон. Он же пристрелит меня, и ему за это ничего не будет. Подумаешь, какая-то сопливая девчонка! Стою, размышляю, а ноги сами несут меня к двери. Вдруг он нарочно оставил меня одну, чтобы я убежала? А я еще раздумываю. Я быстро сбежала вниз. Антон стоял у выхода и смотрел на меня.
— Пристрелю, как щенка, — процедил он сквозь зубы и снял с плеча карабин.
Я пулей взлетела вверх. Сердце сильно колотилось. Немного отдышавшись, я встала на табуретку, дотянулась до обоев, отставших от стены, и рванула их на себя. Сверху на меня посыпалась штукатурка. Я закашлялась от пыли, из глаз потекли слезы, быстро спрыгнула на пол и села на табуретку. Что бы такое придумать?
Я нашла обломок доски, несколько гвоздей. Куском кирпича три гвоздя прибила к доске, загнула их на конце. Получился крюк. Теперь крюком я могла отдирать обои, стоя на полу. Грязь в глаза не сыпалась, и дело пошло быстрее. Только по-прежнему было много пыли. Она попадала в горло, и я кашляла, сплевывая черную слюну.
Болели руки, плечи, я ободрала обои в одной комнате, перешла в другую. Не успела закончить — пришел полицай. Работа моя ему не понравилась.
— Медленно работаешь, нужно было во всем доме почистить, — сказал он.
— Я же больная и так много сделала.
— Завтра закончишь.
Мы молча шли по городу. Темнело, лил дождь. Я подставляла под дождь лицо и руки, чтобы хоть немного смыть грязь. Антон опять вел меня в сарай. Мысли были тоскливые. Я промокла насквозь, а в сарае холодно. Еще одна ночь, и мне конец. Наверное, у меня уже началось воспаление легких. Все тело ноет, не пойму только, от работы или от болезни.
Возле сарая меня ждала мама. Я бросилась к ней. Из глаз у меня текли слезы. Мама тоже заплакала.
— Доченька! Пойдем домой, я принесла документы, тебя отпустили.
Поскорей оставить позади это проклятое место! Мы с мамой всю дорогу почти бежали.
Мама выкупала меня в корыте, уложила в постель, я вся горела. Мама поставила банки, но это не помогло, бил озноб, душил кашель. Я пила горячую воду с сахарином, обжигала губы, но согреться не могла. Протопили печку, но я по-прежнему задыхалась от кашля.
Витя, уходя на работу, пообещал достать лекарство. Мы надеялись, ему удастся прибежать домой в обеденный перерыв.
И Витя прибежал.
— Это самое лучшее лекарство. Пей, не бойся. Я сам отсыпал из коробки.
— А как оно называется? — спросила мама.
— Забыл. Это от воспаления легких.
Он схватил кусок хлеба и побежал обратно, чтобы успеть на работу к концу обеденного перерыва.
Какое лекарство принес Витя — до сих пор не знаем, но я стала поправляться. И однажды я спросила у мамы:
— Почему меня сразу отпустили? Как ты смогла раздобыть документы?
— И не спрашивай, — ответила мама, — пришлось побегать. У меня сохранился твой довоенный рентгеновский снимок. Помнишь, ты болела? Взяла снимок, достала курицу и отнесла доктору, который рентген делает. Поначалу он не хотел давать справку, что у тебя туберкулез, а когда увидел курицу — дал.
— А где ты взяла курицу? — спросила я.
— Взяла… — сказала мама и замолчала.
15
Витя сидит дома, и я очень рада. Мы так редко с ним видимся. Его почти никогда не бывает дома. Даже после работы, усталый, он полежит немного и опять собирается куда-то. Скажет: «К Полозовым», а сам идет в противоположную сторону. Я давно это заметила. Однако молчу, знаю: раз не говорит правду, значит, так надо.
Тайком от всех Витя дал мне листовку. Я прочитала: «1 октября 1943 года освобожден первый город на белорусской земле — Костюковичи». Значит, скоро наши будут в Минске. Витя показал листовку, чтобы подбодрить меня.
До чего же хороший у меня брат! От Вити я узнала, что Неля уже дома.
Дверь у нас всегда закрыта на ключ. Мама боится: вдруг нагрянет полицай и отберет швейную машинку.
Скрипнула калитка. Витя бросился к окну, мама насторожилась.
— Наверно, ко мне, — сказал брат и выбежал на крыльцо.
Через некоторое время он вернулся. С ним был мужчина.
— Он будет у нас ночевать, — сказал Витя.
— Не прогоните? — спросил незнакомец.
— Оставайтесь. Хозяин в Ригу уехал. Мы одни дома. Вас из другой квартиры никто не видел?