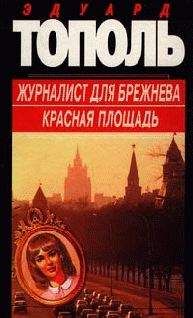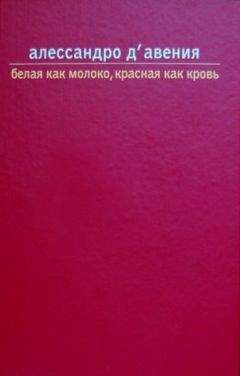Александр Одинцов - Огненная вьюга
— Так точно, — гаркнул боец, как на строевом плацу, и приложил пятерню к ушанке.
— Понятливый, шельмец, — лукаво прищурясь, кивнул на него командиру отряда бригадир, — такого бы мне зятя, только б не конопатого.
— Да оставь ты, отец, мои конопушки, — взмолился боец и повернулся к командиру. — Разрешите идти, товарищ капитан.
— Не со мной разговор, а с товарищем Максимовым, — отозвался Шевченко, — у него и спрашивай…
— Ладно, ступай, вояка, — смилостивился бригадир и, не удержавшись, ворчливо добавил: — «Бюрократ», понимаешь. Учили их, учили, слов, что мы отродясь и не слыхали, понабрались, а простых вещей не понимают.
Но этот разговор состоялся позже, а отряд после прихода посыльного быстро собрался, с наступлением темноты стал на лыжи, совершил быстрый марш и в полном составе прибыл в уютную тихую лесную деревушку Власово. Бойцов развели по теплым избам. Загремели миски, кастрюли, зашумели самовары.
После ужина завязались оживленные беседы. А поговорить было о чем. Немцы в этой деревне еще не появлялись, но жители, знавшие об их зверствах в Волоколамске, Новопетровском и в других населенных пунктах, находились в постоянном напряжении. И их больше всего интересовало, когда же гитлеровцев отгонят подальше от Москвы. Но в одной из изб нашелся и скептик.
— Можа, зря на немца бочки катют, — осторожно, как бы прощупывая настроение собеседников, сказал довольно еще молодой мужик с бельмом на глазу, с лицом, заросшим буйной клочковатой бородищей, которую он специально отпустил, чтобы выглядеть глубоким стариком. — Можа, как говорится, не так страшен черт, как его малюют…
— Не так, говоришь, страшен, — не сдерживая возмущения, ответил старшина Шкарбанов, выбрасывая на стол рыжий ранец. — Вот глядите. Все глядите.
Шкарбанов перевернул ранец. Из него посыпались расписные украшения, рушники, дамское белье, два оторванных с мясом меховых воротника, детские распашонки…
— Ах, аспид окаянный, — раздались голоса, — это же надо, позарился кто-то даже на детское… К чему ж ему все это?
— В фатерлянд хотел послать. Своей фрау, — с сарказмом ответил старшина. — Да не успел. Укокошили мы его. А ранец вам вот на показ принесли. А ты вякаешь «можа, зря…»
Другой разговор шел с колхозниками в избе, где остановились командир, комиссар и начальник штаба отряда.
— Это правда бают, будто немцы из больших орудиев по Москве палят и вроде как Химки они взяли? — спросил дед Евлампий.
— Нет, это неправда, дедушка, — ответил Огнивцев. — Верно то, что они хотели этого. Под Москву была доставлена даже специальная артиллерийская батарея 300-миллиметровых орудий, которые действительно предназначались для обстрела города. Она получила приказ занять огневые позиции в Красной Поляне и открыть огонь по Москве. Но ничего у них не вышло. Тем орудиям не удалось сделать ни одного выстрела. Наши «катюши» накрыли своим огнем эту батарею, а сама Красная Поляна вскоре была освобождена от врага. Что же касается захвата фашистами Химок, то это чистая брехня. Им сейчас уже не до Химок.
— А как же так? — вмешалась в разговор сидевшая на печи бабка. — Вчера пришел из Москвы в деревню Хведька, «Хромой» по прозвищу. Так он говорит, что, дескать, сам видел разрушения в Москве от немецких снарядов.
Евлампий стукнул по столу кулаком:
— Цыц, старая! Стихни! Не мели с чужого голоса. Нашла кому верить — кулаку недобитому. Слухай, что добрые люди говорят.
Стариков очень волновала судьба Москвы. Правда, что называется, краем уха они слышали, что наши вроде начали наступление в Подмосковье, но до них доносились и иные слухи, вроде того, что разнес «Хромой», а кто говорит правду, кто от себя что сочиняет, бог их ведает. «Вот газетку бы свежую почитать, аль бы радио послушать»… Эту мысль старик, задумавшись, непроизвольно высказал вслух.
— Что ж, дедуня, можно, — улыбнулся командир и отдал вполголоса одному из бойцов какое-то распоряжение.
Через несколько минут раздался стук в дверь и в комнату, где находилось командование отряда, вошел с рацией за спиной радист старший сержант Родичев:
— Товарищ капитан, по вашему приказанию прибыл. Разрешите доложить: через несколько минут будет передано важное сообщение. Об этом уже дважды передавалось по радио.
— Ну, так давайте, давайте, сержант, разворачивайте свое хозяйство, — сказал командир. — Пусть и наши хозяева послушают новости из Москвы. А то у них в деревне разные кривотолки ходят…
Все подсели поближе к радиостанции. Комиссар вынул блокнот, карандаш и приготовился записывать текст сообщения. После знакомых всем позывных раздался торжественный голос Левитана:
— Внимание, внимание! Говорит Москва…
Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы.
Поражение немецких войск на подступах к Москве.
…6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери…
После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов.
С 6 по 10 декабря захвачено: танков — 386, автомашин — 4317, мотоциклов — 704, орудий — 305, минометов — 101, пулеметов — 515, автоматов — 546.
В избе поднялся шум, все что-то кричали, обнимались, многие плакали. Один из стариков опустился на колени перед иконами и стал отбивать поклоны, часто крестясь. Старуха, лежавшая на печи, от радости растерялась, расплакалась и забормотала что-то, мешая слова молитв с проклятиями оккупантам и пожеланиями новых побед родным красноармейцам.
Командир, комиссар и начальник штаба крепко, по-мужски обнялись, не выбирая слов, от всей души начали поздравлять бойцов, колхозников с победой под Москвой.
Радость била через край. На столе, словно сам собой, появился небольшой графинчик с московской водкой. Дед Евлампий бережно и аккуратно разлил ее по всем, как он выразился, емкостям, которые нашлись в доме. Но выпивка досталась всем. Не больше чем по наперстку каждому. Да и не в ее количестве было дело. Главное, что можно было провозгласить тосты, которые рвались из груди. Первым поднял свою рюмку дед Евлампий:
— За нашу Красную Армию! За здоровье ее бойцов и командиров! Ура!
Потом чокались уже пустыми разнокалиберными рюмками, стаканами, алюминиевыми кружками, чайными чашками за Москву, за полную победу над фашистскими извергами, за погибель Гитлера со всей его сворой и вновь за своих родных защитников.
Ответное слово произнес комиссар:
— Большое спасибо вам, дорогие вы наши, за любовь к Красной Армии, за помощь нашему отряду. Гитлер хотел превратить наш народ в своих рабов, обречь на голодную смерть. Вот что нашли мы в портфеле убитого фашистского офицера… — Комиссар достал из полевой сумки листок с переводом приказа командующего четвертой танковой группы генерала Хюпнера. — Послушайте, друзья, какие порядки они хотели у нас установить: «Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью… Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения… В случае применения оружия в тылу армии со стороны отдельных партизан применять в отношении их решительные и жестокие меры. Эти мероприятия распространяются также и на мужское население с целью предотвращения возможных с его стороны покушений». Вот так-то! Думается, что нет нужды комментировать этот человеконенавистнический документ. Тех, кто издает такие приказы, и тех, кто их рьяно выполняет, мы будем уничтожать беспощадно, без устали, пока не победим. Смерть немецким оккупантам!
Седой старичок, внимательно прислушивавшийся к словам комиссара, ковшиком приложив ладонь к уху, часто закивал и удовлетворенно проговорил:
— Во-во, как раз то самое, что я нашим бабам толкую. Всем им смерть будет, как всяким там бонапартам, кайзерам, врангелям и прочей нечистой силе. Нехристи они, нелюди, таких не бить — грех великий перед Отечеством нашим.
— А немец-то, ребятки, уж не тот пошел, — заторопился, боясь как бы его не перебили, другой старик, — не тот, совсем не тот. По первости он гоголем, петухом этаким ходил. Хох тебе да хайль. Матка, яйка, курка, сало, дескать, гони. А как дали ему в зубы да по сопатке, да ишшо мороз поддал, так он и заскулил. Глянуть на него — и смех, и грех. Обут, одет, как пугало огородное, завшивел. В глазах — тоска. Уж не до хохов ему, хайлей, а «капут» бормочет, «клеб» ищет, а не курей. Так-то вот!
— Вот я ишшо что хотел спросить, — продолжал глуховатый старичок. — Отчего это в речах ваших все о дисциплине разговор. Что, не слушаются вас, али как? А то все об дисциплине, чисто тебе мужик о хлебе…