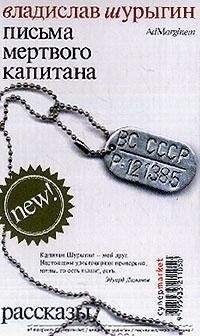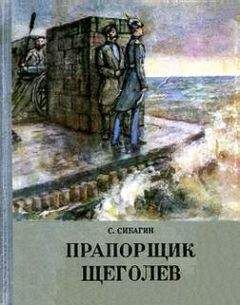Владислав Шурыгин - Зенитная цитадель. «Не тронь меня!»
— Что «того»? — недоуменно спросил Мошенский.
Афанасьев понизил голос до шепота:
— Дрейфуем.
Мошенский встал. В это время палуба накренилась, ринулась из-под ног, но Мошенский устоял.
— Насчет дрейфа, виноват… Лейтенант только сказал: «Срочно пригласи на мостик командира». Но я знаю… — оправдываясь, пояснил посыльный.
— Ох, Афанасьев, Афанасьев… — досадуя, вздохнул Мошенский и вышел из каюты в коридор.
Палуба поддала в ноги, и Мошенский почувствовал привычное, давно знакомое в качку: тело стало точно вдвое тяжелее. Затем палуба ухнула вниз, и сделалось легко, как на качелях. Мошенский ухватился за поручни: «Ишь, разгулялось… Баллов семь наверняка».
Наверху свежо. Ветер расчистил небо. Низкие быстрые облака шли как бы на одной высоте. Под ними пока слабо, но все же просматривался берег. Палуба, орудия, поручни льдисто блестели…
— Товарищ старший лейтенант! — шагнул навстречу Даньшин. Доложил озябшим голосом: — Якорь, похоже, не держит. Нас сносит.
— Похоже или не держит? — недовольно переспросил Мошенский. Он не любил неопределенных докладов.
— Скребет дно «Императрица Мария», — ответил из-за спины Мошенского боцман Бегасинский.
— Вот боцман ходил, слушал. Скребет, — уточнил Даньшин.
— Дайте бинокль, — протянул руку Мошенский. Прежде чем взять пеленги, следовало найти ориентиры… При такой видимости это сложно.
Мошенский сдвинул на затылок ушанку, поднес к глазам бинокль… Стоял, широко, по-штормовому, расставив ноги. Ветер рвал полы его шинели, и они взлетали и хлопали, точно черные крылья.
— Не видно… — сказал негромко, а про себя подумал: «Похоже, что берег действительно приблизился. Ветер в сторону Качи. Там — немцы». — Когда рассветет — определимся. Но к тому времени надо решить… Боцман!
— Я! — с готовностью отозвался Бегасинский.
— И что, сильно якорь скребет?
— Слышно, что сильно, товарищ командир. Мошенский мельком взглянул на мичмана и только сейчас заметил, что тот лязгает зубами от холода. Мокрые брюки обтянули ноги, застегнутый наглухо китель — не одежда при такой погоде, да и промок, наверное, до нитки. Как сумел боцман при волне в такой накат пробраться на бак, осмотреть и «прослушать» якорь-цепь?
— Идите переоденьтесь, боцман! А заодно вызовите в рубку комиссара и лейтенанта Хигера. Матросам пока никому ни слова. Ясно?
— Есть. Ясно… Переодеться не помешает: я как огурец в рассоле.
…К сожалению, худшие предположения лейтенанта Даньшина и мичмана Бегасинского подтвердились: якорь не держал, «Квадрат» сносило…
На шифрограмму Мошенского штаб ОВРа ответил, что буксиры в такую погоду выслать нельзя и потому надо держаться. Мошенский и Хигер высчитали: к утру следующего дня плавбатарея будет находиться в полумиле от занятого противником берега. Практически это означало — к утру немцы смогут расстреливать «Квадрат» из всех видов стрелкового оружия, исключая разве что пистолеты… Время сеанса радиосвязи кончалось, и Мошенский поспешил сообщить штабу все вычисленные им неутешительные данные. Штаб ответил: «Постараемся помочь. Держитесь».
Держались. Уже невооруженным глазом было видно — берег приблизился. И, хотел того Мошенский или не хотел, все плавбатарейцы уже знали об этом. Люди часто поглядывали в сторону берега, негромко переговаривались, обсуждали создавшееся положение, но больше молчали. Одолевали сомнения: а вдруг шторм не утихнет и обещанная помощь не придет? Да и почему, собственно, шторм должен утихнуть?! Только потому, что плавбатарею несет к занятому противником берегу?! Стихии все равно… Но свои-то должны понимать, в какое трудное положение попал «Квадрат»!
В полдень, казалось из самого зенита, раздался шелестящий свист… Люди по привычке взглянули на небо — погода нелетная, самолетов не видно.
Метрах в пятистах, с недолетом, поднялся и рухнул перед плавбатареей столб воды и пламени. Минут через двадцать — снова свист и разрыв почти там же. Гитлеровцы начали обстрел «Квадрата». Стреляло, судя по всему, одно орудие. «Специально выделенное», — как мрачно сказал кто-то…
Пока «Квадрат» находился вне досягаемости разрывов, но с холодящей душу арийской методичностью фашисты продолжали обстреливать плавбатарею. Двадцать минут — свист, разрыв… Еще двадцать минут — снова свист, разрыв…
Прошло два часа, а орудие все стреляло. Столбы воды, огня и пара вставали теперь уже метрах в трехстах.
Время работало против плавбатареи.
Море раскачивало, швыряло «Квадрат».
На верхней палубе, по приказанию Мошенского, дежурили только три орудийных расчета из семи. Однако трудно сказать, кому было тяжелее — тем, кто находился на штормовом пронизывающем ветру и видел, как ложились в море разрывы тяжелых снарядов, или тем, кто не видел зловещих всплесков, но через равные промежутки времени слышал глухой разрыв очередного снаряда…
Была команда заниматься теорией стрельбы. Лейтенанта Хигера хватило на два часа — дальше слова, вопросы, ответы истощились. Пришлось объявить перекур. Тесной кучкой стояли матросы в умывальном помещении, дымили моршанской махоркой.
— Нет, ты смотри, что делает, стерва… — прислушался к близкому разрыву Лебедев. — Хоть часы сверяй. Он, гад, небось заранее снаряды заготовил, по три штучки на каждый час.
— И считал небось кривым пальцем: «Ейн, цвей, дрей!» — пошутил, улыбнувшись в тонкие усики, Капитон Сихарулидзе — на батарее его звали Капитоша.
— А для тебя, Леша, у них отдельный снаряд помечен. И подписано: «Краснофлотцу товарищу Лебедеву от Гитлера лично», — попробовал кто-то поддержать шутку, но в общем-то бодрые слова воспринимались невесело.
— Ничего. Не успееть немец выпустить свой снаряд, Леша, аблазе ночь придеть, буксирчик пришлють… — успокоил Лебедева его дружок Алексей Воронцов. «Аблазе» в переводе с какого-то районного смоленского говора означало «потому что», «потому как». Так вот успокоил Воронцов друга: не успеет немец по Лебедеву персональный снаряд выпустить, «аблазе» — «потому что» ночь придет и буксиры батарею у немцев из-под носа вытянут.
Соответствующий своей фамилии наводчик из расчета Лебедева — крепкий, кряжистый Семен Здоровцев — происходил из потомственных рыбаков, на плавбатарею был призван из запаса. Здоровцев не любил много говорить. Сейчас, томясь неясностью и отсутствием работы, Семен Здоровцев неспешно курил, держа возле губ, в больших сильных пальцах, цигарку. Он не слушал, о чем говорили товарищи, и мыслями своими перенесся к родному дому, к жене, детям…
Еще разрыв… Стоя возле переборки, Здоровцев ощутил спиной, как загудела, задрожала броня, откликнувшись на только что погашенную морем силу снарядного взрыва.
— До ночи бы, братцы, дотянуть… — вздохнул кто-то из моряков.
Об этом же шел между командиром и комиссаром разговор в боевой рубке.
— Дотянем, Нестор Степанович! — убежденно сказал Мошенский.
Середа не ответил, слишком круты были его думы… Только что собирал он коммунистов и каждому из них дал задание — крепить, держать моральный дух, ободрять людей. Правда, по докладам, да и по личным наблюдениям все было в порядке. Не такой моряки народ, чтобы раскисать. Однако, строго говоря, симптомы неверия в то, что выстоим, уцелеем, были. И заметил их Мошенский.
Кормовой орудийный расчет старшины 2-й статьи Кузьмина переоделся в первосрочное обмундирование и на вопрос «почему» объяснил это морским законом, традициями.
Кузьмин, правда, сослался на мичмана Бегасинского. Дескать, боцман-то, старый морской волк, переоделся в выходное — вот, значит, на него глядя, и молодежь пожелала… Откуда Кузьмину было знать, что рано утром, обвязанный линем [7], лазал боцман на бак, под волны, осматривать якорь-цепь и, понятное дело, промок до нитки. Потому-то и пришлось переодеться.
Мошенский приказал «притормозить» морской закон. Заметил Середе:
— Морские традиции, Нестор Степанович, тоже оружие. А всякое оружие следует применять ко времени и к месту. Будет совсем трудно — сам дам команду переодеться в первосрочное. Сам новый китель надену. А пока разъясните людям: держаться и работать по-будничному!
— Сергей Яковлевич… — глухо сказал Середа, по обыкновению своему барабаня пальцами по штурманскому столику. — А может, наши овровцы… недооценивают обстановку? Может, мне дать радиограмму полковому комиссару Бобкову? Он на них нажмет, — глядишь, и вышлют буксир.
Мошенский внимательно взглянул на комиссара. Ответил не сразу:
— Нет, Нестор Степанович, не надо… Они понимают обстановку. Обещают помощь.
В рубке наступила тишина. «И все-таки, — думал Середа, — надо бы сообщить Бобкову… Мошенский перебарщивает. Оптимизм, выдержка — хорошо, но обстановка критическая. К ночи нас могут просто-напросто потопить…»