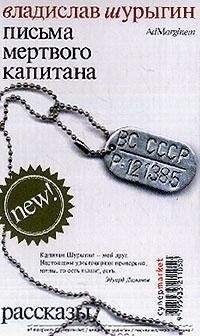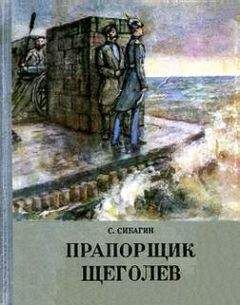Владислав Шурыгин - Зенитная цитадель. «Не тронь меня!»
Рядом с Даньшиным на мостике коротали вахту два тоже позеленевших от холода и качки сигнальщика. Светало. Успокаивала низкая облачность, мелкий, точно распыленный, дождь. В такую погоду самолеты не летали. Из-под мостика время от времени доносились голоса. Укрывшиеся от непогоды дежурные расчеты, судя по всему, рассказывали друг другу забавные истории. «Наверняка Костя Румянцев про свою московскую довоенную жизнь травит, — подумал Даньшин. — Тертый парень! Кем только не успел поработать: и токарем, и осветителем в театре, и оформителем витрин… Вот у кого талант рассказчика! Артист! А вообще-то хорошо, что есть на флоте такие бесшабашные, неунывающие люди. И штормы им нипочем, и товарищам с ними легче службу нести. Особенно сейчас, когда оставшиеся на ногах должны работать каждый за двоих. Ох, и мотает!..»
Чтобы отвлечься от наваливающейся тошноты, Даньшин окликнул сигнальщика:
— Скляров! Как вы там?
— Живой! Что мне сделается, товарищ лейтенант! — отозвался сигнальщик.
— А Коцуба?
— Порядок. Сухарика пожевать не хотите? — Второй сигнальщик протянул Даньшину сухарь.
— Спасибо. Без чая не употребляю, — отказался Даньшин, хотя ему и хотелось похрумкать сухариками: знал — еда помогает от качки.
А еще помогают воспоминания. Но о прошлом думать не хотелось: сто раз уже передумано. Что-то недавнее, тревожное теснилось в памяти, искало выхода, и лейтенант Даньшин вспомнил, что именно…
Ушел из Севастополя флот. Весь ли — неизвестно, но что самые мощные корабли ушли — это точно.
Раньше от сознания, что за спиной у тебя, в бухтах Севастополя, стоит, служит, воюет весь Черноморский флот, было на душе спокойнее. Нет-нет да и загудят, заухают орудия главных калибров. А теперь… Разве забудешь ту ночь, когда уходили корабли?
Трое молодых командиров стояли тогда возле борта и смотрели на медленно таявшие на фоне густого вечернего неба силуэты крупных боевых кораблей.
Лейтенантам и раньше изредка приходилось наблюдать выход кораблей на позицию для поддержки сражавшихся на суше войск огнем. Теперь же корабли уходили строем, в кильватер один другому, как на больших маневрах. Уходили от Севастополя, в открытое море… Куда?
Костя-воентехник первым нарушил тревожное молчание. «Эскадра уходит!..» — отчаянно воскликнул он.
«Да, они уходят, а мы остаемся! — раздался за спиной лейтенантов негромкий, точно простуженный голос. Мошенский стоял на мостике и вынужден был вмешаться. — Мы остаемся, — твердо повторил он. — И попрошу вас, товарищ воентехник второго ранга, без паники».
Даньшин благодарен командиру плавбатареи за тот «аванс доверия». Стояло-то их трое, а Мошенский замечанием своим невольно отделил Костю-воентехника от Даньшина и Хигера. А ведь Даньшин, не окажись рядом Мошенский, возможно, тоже поддался бы минутному настроению. Он был уверен: командир по деликатности своей не сказал бы о панике и Косте-воентехнику, нашел бы другие слова. Но Костя занимал на плавбатарее особое положение. Он тяготился своим положением. По словам доктора Язвинского, «пребывал в подвешенном состоянии». А найди Костя себе дело и место, подай рапорт с просьбой остаться на плавбатарее — к нему относились бы иначе. И в первую очередь Мошенский.
Костя такого рапорта не подал и дождался-таки желанной радиограммы с берега: «Откомандировать временно прикомандированного…»
Костя от радости готов был расцеловать каждого, проявлявшего к нему сочувствие или понимание, — а такие, безусловно, были.
Эх, русская душа! Кто ее познает… Сами оставались на неизвестные времена вдали от суши, оставались под всеми летавшими на Севастополь вражескими самолетами, а ему, спешившему покинуть батарею, говорили: «Привет земле! Мети клешами бульвары, Костя!»
Не знали, что в Севастополе на бульваре — ни души. Только патрули.
А может, пожелание «Мети клешами бульвары…» было не чем иным, как неосознанной тоской по земле, городу, девичьим улыбкам, перезвону трамваев и гудкам кораблей в порту…
Иные иронически посмеивались: «Рванул, как на курорт. Ну-ну…»
«Счастливо вам, братцы!» — шумел с палубы «Дооба» Костя-воентехник.
Позже командир «Дооба» Иващенко спросит командира «Квадрата»: «Чем это вы, братцы, так Косте-воентехнику насолили? Едва отчалили, он слезу рукавом смахнул и сказал: «Все. Отмучился».
«Шутит он, — засмеется Язвинский. — Ему у нас неплохо жилось».
Мошенский промолчит, только в серых глазах веселость промелькнет. За последнее время никто не помнит, чтобы он улыбался.
…Даньшин взглянул на часы. До смены оставалось сорок минут. Часы Даньшину подарил старший брат Иван. Он был кадровый командир-артиллерист. В тридцать четвертом году окончил в Ленинграде академию, но радость завершения высшего военного образования омрачило большое горе: умер отец.
В Алма-Ате, в родном доме, собрались все они, Даньшины: мать, трое братьев, две сестры.
Отец лежал в гробу с выражением солдатской собранности на лице. Точно по команде, замер старый солдат… А уж ему при жизни досталось болезней, пуль, осколков… Прихватил три войны: русско-японскую, мировую и гражданскую. Да и потом не жалел себя: семья-то большая — надо прокормить…
Николай Даньшин поступил на рабфак при Казахском педагогическом институте. Окончил четыре курса, а затем по примеру старшего брата взял да и решил стать военным — подал документы в Черноморское высшее военно-морское училище. Уехал в Севастополь, стал курсантом.
Нельзя сказать, чтобы учеба давалась Николаю Даньшину легко. Скорее наоборот. Выручал характер, выработанные с детства неспешность и упорство.
Не умел Даньшин хватать на лету знания. Другому объясни — он понял и знает, а Даньшин… только понял. Чтобы знать, ему еще надо было одному подумать, разобраться, запомнить, все по полочкам разложить. Но уж если Даньшин что усваивал, то накрепко.
В школе он все больше с математикой воевал, терпеть ее не мог и в учителя гуманитарных наук подался, надеясь быть от нее подальше. Однако жизнь распорядилась иначе, и математика, во всей своей сложности, явилась ему снова в стенах высшего военно-морского училища. Ни штурманские науки, ни теория устройства корабля, ни тем более расчет артиллерийского и зенитного огня без нее не обходились.
Ох и хлебнул горя! На втором курсе математика едва не доконала его. Однако вытянул на твердую тройку, а с другими предметами товарищи выручили: помогли.
Наверное, от этой многолетней постоянной борьбы с науками, от несоответствия неспешной натуры своей быстрому бегу времени вышел лейтенант Даньшин на флот с характером скрытным, педантичным и упрямым.
Однако впоследствии качества, причинявшие ему во время учебы столько неприятностей, отнюдь не сказались отрицательно на практической службе. Более того — три доверенных Даньшину расчета 37-миллиметровых автоматов довольно скоро оказались слаженными до автоматизма. Мошенский последнее время не раз про себя отмечал: «Этот Даньшин, пожалуй, посильнее других лейтенантов. Резковат, любит повысить голос на подчиненных, но дело свое знает и любит…»
Мошенскому нравилась настойчивость лейтенанта. Кого-кого, но Даньшина не надо было заставлять проводить дополнительные тренировки с расчетами. Едва выпадал относительно свободный час, он спешил на бак или на ют к своим расчетам… От Даньшина не услышишь: «Палим порох, а сбитых самолетов все нет!» Чем напряженнее оказывалась боевая обстановка, тем злее и упорнее становился командир 37-миллиметровых автоматов.
…Лейтенант Даньшин прислушался к далеким, точно громы над морем, глухим ударам. Удары доносились из-за Севастополя, откуда-то из глубины суши. К сожалению, нельзя было узнать, что там происходит. Минный заградитель «Дооб» не приходил, газет свежих не поступало, а по радио передавали, что в районе Севастополя идут упорные оборонительные бои.
— Товарищ лейтенант! Сколько там до смены? — спросил сигнальщик Скляров.
Даньшин еще раз взглянул на часы. Ответил.
Как медленно шло время…
* * *…Мошенский спал не раздеваясь. Из-под наброшенной шинели торчали обутые ноги.
— Товарищ командир! Товарищ командир! — дотронулся до спящего старшина Афанасьев.
— Что? — встрепенулся Мошенский. Сел, точно и не спал, а всего лишь прилег.
Лейтенант Даньшин просил, чтобы вы пришли на мостик. Мы, кажется, того…
— Что «того»? — недоуменно спросил Мошенский.
Афанасьев понизил голос до шепота:
— Дрейфуем.
Мошенский встал. В это время палуба накренилась, ринулась из-под ног, но Мошенский устоял.
— Насчет дрейфа, виноват… Лейтенант только сказал: «Срочно пригласи на мостик командира». Но я знаю… — оправдываясь, пояснил посыльный.