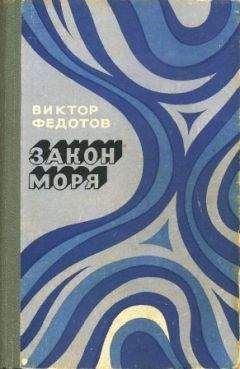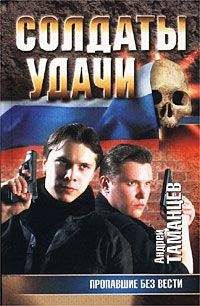Степан Злобин - Пропавшие без вести
Но радость Ивана была еще шире. Она умножалась чувством свободы и возвращения к жизни.
— А все-таки мы вас, товарищ, с собой взять не можем. Вам надо в тыл, — как показалось Балашову безжалостно, сказал замполит, подполковник Сапрыкин, который в подробностях расспросил Балашова о том, как он убежал и как дождался своих.
— Куда же его, товарищ подполковник, одного пустить ночью! По дороге еще с каким-нибудь фашистским охвостьем встретится. Пришьют, да и все! — возразил комбат, жалея Ивана.
— Старшина! Выдай бывшему пленному комплект обмундирования, — приказал подполковник. — Да не «беу» дай, а новое. Пусть человеком оденется…
— Товарищ подполковник, а как с начхозом? — несмело сказал старшина.
— С капитаном потом сговоримся! Выдай… только без знаков. Погоны, звезду оставь у себя, — приказал Сапрыкин.
— Понимаю, товарищ подполковник! — многозначительно подтвердил старшина.
И в этих его словах и в его тоне, как и в тоне замполита, для Балашова прозвучала обида. Разве он не такой же красноармеец, только замученный горькой судьбой первых наших поражений в войне?! Разве он виноват в этой доле?! Ему боятся доверить звезду и погоны… Не верят! За что? Почему?
Его охватила горечь, почти отчаяние.
Подполковник почувствовал его состояние.
— Ты, товарищ Балашов, сам должен понять, как комсомолец, прошедший фашистский концлагерь, что мы тебя встретили на дорогах Германии, — мягко сказал он. — Никто из нас тебя ведь не знает…
— Нет, я, товарищ подполковник, все понимаю… Я все понимаю, — пробормотал Балашов. — Я все понимаю! — с усилием, громче нужного, повторил он.
Боль обиды не проходила и вырвалась в голосе.
— Иди получи человеческую одежду, а эту всю гадость в костер! — сказал замполит, тепло положив ладонь ему на плечо.
«Сто грамм» с приправой из жирной свиной похлебки, досыта хлеба, какие-то консервы, теплая шинель, чистое белье, сапоги, портянки и шапка… Балашову теперь хотелось уснуть на целые сутки, но часть уже поднималась к движению.
— Где, товарищи, наша находка? — услыхал Иван голос бойца, своего «тезки», которого первым обнял, выбежав на дорогу.
— Балашов! Эй, Ваня-лагерник! — зашумели красноармейцы.
Иван отозвался.
— Повезло тебе: командир полка едет в тыл, вызывают в штаб. Он тебя довезет и в госпиталь сдаст.
— А зачем меня в госпиталь? — удивился Иван. Ему казалось, что он никогда еще не был так здоров и так крепок.
— Как так зачем! Да ты посмотри на себя! Куда же еще-то такого!..
Балашов подошел к легковой машине, ожидавшей полковника. За рулем сидел старший сержант с обожженным, обезображенным рубцами и швами лицом.
— Это ты из гефангенов?[112] — приветливо спросил он.
— Я не просто гефанген, я хефтлинг,[113] — сказал Иван.
— А это какое же звание?
— Из концлагеря, каторжник, приговоренный к смерти.
— Ну, теперь, значит, к жизни! — ободряюще сказал шофер. — В госпиталь поместят, подлечат, подкормят…
— На что мне! Я хоть сейчас в окопы! — возразил Балашов.
— Ничего, ничего! Небось хотел сразу в бой? Все вы такие! — сказал, подойдя незамеченным, полковник. — Лезь туда, садись сзади. Вашего брата сначала лечат, потом в штурмовой батальон. После первого боя — в нормальную часть… Трогай, Сережа, — приказал он водителю, садясь впереди. Рядом с Иваном, сзади полковника, сел лейтенант с автоматом.
Шофер полковника в ночной темноте, по временам задерживаясь, расспрашивал дорогу у встречных частей.
Сколько их шло! Сколько их шло по этим дорогам, как, должно быть, и по всем дорогам Германии! Танки, пехота и самоходки…
По сторонам шоссе в трех-пяти или в десяти километрах била еще артиллерия, минометы, вставали зарева. Весь горизонт озарялся вспышками, издалека слышались даже пулеметные и винтовочные выстрелы, а здесь, на шоссе, уже был спокойный, покорно умолкнувший, признавший себя покоренным тыл. Передовые красноармейские части, должно быть, стремительно продвинулись по дороге вперед. Теперь машина полковника одиноко шла темным пустынным шоссе, между обступившим лесом. Потом прогремели навстречу несколько танков, и снова бежала среди полей темная, обезлюдевшая ночная дорога Германии — разбитой всемирной насильницы…
На развилке дорог водителя в чем-то взяло сомнение. Он на обочине приглушил мотор и вышел, чтобы сквозь муть мелкого, мелькающего снега проверить дорожный указатель. Он посветил себе фонариком… Раздались внезапные выстрелы из темноты. Шофер в ответ на них дал автоматную очередь. Полковник и лейтенант мигом выскочили из автомобиля, упали на дорогу и тоже стреляли в невидимого врага. Выскочил и распростерся на холодном асфальте и Балашов.
— Товарищ полковник! — тихо позвал шофер. — Садитесь скорей, дам газу!
Но где-то совсем близко ударил одиночный выстрел из темноты, и поднявшийся было шофер упал на дорогу.
Балашов схватил его теплый автомат, припал в кювет рядом с полковником и лейтенантом и «на ощупь» дал очередь в ночь.
Выстрелы с поля понесли над их головами несколько свистнувших пуль. Лейтенант тихо охнул.
— Лева?! Ранен? — спросил полковник.
— Угу, — сдержанно промычал лейтенант и бессильно сполз в канаву.
— А что с Сережей? — спросил Балашова полковник.
— Плохо, должно быть: автомат уронил — значит, руки не держат.
— Я буду отстреливаться, а ты их обоих в машину тащи, — приказал полковник.
Иван поднял раненого лейтенанта.
— Куда вас? — спросил он.
— Умираю. Все, — ответил тот. — Брось. Прикрывай полковника.
Иван усадил его, привалив на заднем сиденье. Прежде чем поднять с дороги водителя, дал еще автоматную очередь в темноту, потом поднял шофера. Тот обвис у него на руках. Иван едва справился, втаскивая его в машину.
Враг молчал. Иван тихонько окликнул полковника.
— Ну, как Сергей? — опять спросил тот в беспокойстве.
— Тяжело, должно быть. Он без сознания. Раны нигде не заметно, а свет не зажжешь…
— Я сяду за руль. Держи автомат наготове, — сказал полковник. — Садись на переднее, рядом, спусти-ка стекло.
Полковник нажал стартер, и, как будто на этот звук, снова ударили выстрелы из темноты. Лобовое стекло брызнуло мелкой дробью осколков.
Машина не стронулась, хотя мотор тихонько ворчал.
— Дьявол! В ногу меня, — тревожно сказал полковник. — Машину водить умеешь?
— Водил, — неуверенно отозвался Балашов, и голос его дрогнул.
В военной газете еще до войны всех их учили водить громоздкие и тяжелые типографские автомашины: редактор, наборщик, печатник — все могли заменить водителя, если его ранят. Легковую Иван водил раза два «для пробы»…
— Садись за руль, живо! — приказал полковник. После такого длинного перерыва, к тому же еще в темноте, на незнакомой машине, сесть за руль… Но иного выхода не было.
Выпуская короткие очереди из автомата, Иван обежал машину вокруг.
— Вот так влипли! — проворчал, тяжело перемещаясь, полковник.
Балашов осторожно стронул машину. Снова ударили разом два выстрела вовсе рядом. Иван дал полный газ и с каждой секундой увереннее и увереннее повел автомобиль по дороге.
Всего в каких-нибудь двух километрах встречная часть пехоты подтвердила им, что они едут правильно.
Сестра сделала перевязку полковнику, рана которого оказалась не тяжела, перевязала и лейтенанта.
Шофер оказался уже мертвым. Пуля прошла возле сердца.
— Эх, Сережа, Сережа! Товарищ сержант, друг ты мой дорогой! Сколько прошли мы с тобой! И далеко ли до победы, а ты!.. — горько сказал полковник и осекся, умолк…
Еще меньше десятка минут — и они приехали в штаб, куда был вызван полковник. Лейтенанта тотчас же сдали в санчасть.
А на рассвете, вместе с полковником похоронив убитого шофера, Балашов, уже с красноармейскими погонами на шинели и с заветной звездой на шапке, на заднем сиденье той же машины ехал с полковником, нагоняя часть. На груди у него висел автомат убитого Сергея.
Бойцов, освобожденных из плена, обычно направляли на несколько времени в госпиталь, чтобы дать им отдых и подкормить.
Полковник Анатолий Корнилыч Бурнин, у которого в адъютантах оказался Иван, сказал, что не хуже подкормит его и в своей части, что же касается разговора об отдыхе, то сам Балашов считал, что отдыхать будут разом все — после войны, которой осталось, может быть, месяц…
Бурнин подробно расспрашивал Ивана о жизни в лазарете ТБЦ, о подпольной работе, о допросах гестапо и о пребывании в концлагере, и Балашов показал ему изрубцованную спину, красные шрамы от побоев и ожогов.
— Живуч ты, парень, живуч, а главное — наш! Вот что главное! — говорил Бурнин.
Балашов рассказал ему отдельные эпизоды из жизни ТБЦ-лазарета, рассказал и о том, как мучительно бились они в попытках установить связь с советским командованием через товарищей, уходивших в побег.