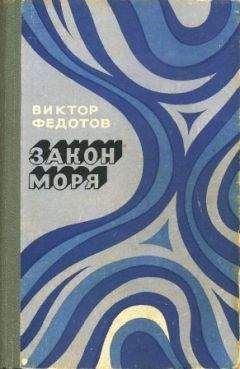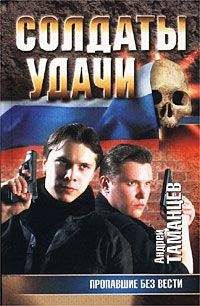Степан Злобин - Пропавшие без вести
Так было у нас, а теперь так у них… Бегут из домов, бегут… Если представить себе реально эту картину, она разбудит простую человеческую жалость. Однако, если сейчас кто-то из этих несчастных, покинувших кров, бездомных путников набредет на сарай, где укрылись беглые смертники, он их не станет жалеть, он тотчас поднимет тревогу, и какой-нибудь господин из тех, что едут на запад, лихо разрядит в них свой парабеллум, чтобы потом хвастливо рассказывать, как он убил троих коммунистов, успевших проникнуть в тыл… Впрочем, может быть, это будет пятнадцатилетний звереныш, мальчишка-гимназист с деревянной нацистской выправкой бедного мозга…
По грохоту и железному лязгу, который внезапно навалился, заглушая гудки машин, рокот автомобильных моторов и крики людей на дороге, можно было понять, что вдоль шоссе проходит колонна танков. Лязг и грохот, нарастая и удаляясь, шел с запада на восток: издыхающий рейх еще перебрасывал с запада запоздалые иссякающие резервы, он еще огрызался… Да неужели же еще и здесь они будут сопротивляться?! И в эту пору, в эти часы, приходилось лежать без движения, без дела, а как было бы здорово забросать эти танки бутылками с зажигательной смесью!..
Танки отгрохотали своей стальной тяжестью, и вот снова послышались крики людей, гудки и отдельные выстрелы автоматов — и все это на фоне равномерного, с каждым часом растущего, словно подземного гула, означавшего приближение фронта…
Смеркалось, и наступала ночь.
На востоке вставало мерцающее, дрожащее зарево, поднимаясь все выше по горизонту.
— Ребята, ребята! Вот бы сейчас нам хоть по ручному пулеметику в руки — вот бы наделали каши у них на дороге, а! — подал голос сержант.
— Уходят на запад, проклятые. Там все-таки родственники у них — Америка, англичане… Бегут от наших, собаки! — переговаривались беглецы.
— А ведь успеем, товарищи. Ей-богу, успеем подраться!
— Дня через три доберемся до наших!
— Нашим сейчас хорошо бы сбросить наперерез им десант…
— Небось догадаются, если надо! Думаешь, нашей разведки тут нет на дорогах?!
— Ишь сволочи, драпают! Сколько же их?!
— Ну, товарищи, пора подниматься. Иван, ты сумеешь идти? — сказал Николай.
Закусив на дорогу еще кусками сырого кролика и овсом, они тронулись в путь по снежной целине. Но не далее двух километров боль в животе повалила Балашова прямо в открытом поле на снег.
— Идите одни. Я больше никак не могу, — сказал он, скрипнув зубами, чувствуя чуть ли не большую боль, чем от ударов по животу гестаповского следователя.
— Замерзнешь в поле! Хоть бы остался в сарае, где мы лежали, — предостерег Коваленков.
— Как разыщем какое-нибудь укрытие, так вернемся, — нетерпеливо сказал его спутник. — Пошли!
Балашов остался один на снегу, ничем не прикрытый от стужи, ветра и человеческих глаз. На рассвете он увидал какую-то кучу и пополз под ее укрытие, думая, что это стожок. Едва заметными движениями, боясь стряхнуть с себя снег, который сейчас его облепил, как маскировочный халат, подобрался ближе и обнаружил, что это лишь куча камней…
Невдалеке Иван разглядел лесок, с другой стороны — деревню. Возле деревни проходила дорога. Теперь уже Балашов не только слышал — он видел, как катились машины. Они шли колоннами или в одиночку, иногда останавливались, и тогда раздавались гудки, гудки, гудки, чиханье моторов, громкая брань. Шагала без строя усталой, нескладной вереницей пехота… Балашов припомнил, что в начале войны немецкая пехота часто ездила на машинах, чем вызывала зависть наших бойцов. Теперь солдаты шли спотыкаясь, медлительные, замученные, вразброд. Иногда с трезвоном проезжали вереницы велосипедистов…
В короткие промежутки затишья, когда дорога почти пустела и гул гудков и моторов стихал, доносились удары тяжелых взрывов…
Вот она, вот она идет, Красная Армия!..
Товарищи не возвращались. Днем они и не могли, конечно, вернуться. Однако же и тогда, когда день угас, Иван ждал напрасно. Он был убежден в верности Коваленкова. Либо им было невозможно покинуть найденное убежище, либо они его не нашли и так же, как он, залегли где-нибудь в снегу. Из лагеря Балашов захватил жиденькое солдатское одеяло. Теперь оно все-таки укрывало его от морозного ветра.
«Вот так уснешь и замерзнешь!» — пугал себя Балашов. Он дал себе слово не засыпать, но веки сами смежались. Иван вздрагивал и вдруг просыпался, как от испуга. Но через несколько минут опять начинал засыпать под неумолчный рокот моторов. Покинуть это место — значило растеряться с друзьями. Что было делать?!
«Замерзну», — сказал он себе, когда ночью мороз покрепчал, и, собрав все силы, пополз к сараю, который приметил днем в стороне от деревни. Все тело его одеревенело от холода. Но все-таки он добрался. В сарае оказался сложен необмолоченный овес и горох. Иван зарылся в снопы и отдался сну…
Прошли еще сутки. Балашов оставался в бездействии, и оттого время для него невероятно тянулось. Два раза в течение дня он выползал из снопов, чтобы черпнуть горсть-другую снега для утоления жажды. Сквозь приоткрытую дверь сарая он увидел танки, которые шли к востоку.
«Еще, еще огрызается! Ну, погодите! Должно быть, и мне все-таки суждено с вами драться, и я подерусь, и я вам еще покажу!» — думал беглец. «Я вам покажу!» — хотелось ему крикнуть…
Шло время…
Вдруг взрывы ударили ближе, ближе. Это уже была стрельба из минометов или из противотанковых пушек… Явно — из пушек! Это бой с теми танками, что прошли полчаса назад. Бой! Вот он! В бинокль его можно было бы видеть отсюда… Стрельба приближалась — она слышалась почти рядом, может быть в пяти или трех километрах. Хотелось вскочить и бежать туда, где дерутся. И вдруг звуки боя перебросились, они возникли теперь уже западнее, к западу от Ивана… И тогда дорога вдруг опустела — немцы побросали машины и бежали в деревню, в дома, в укрытия… Усталость и сон отлетели. Сердце билось с какой-то необычной силой и частотою.
И вот опять раздался скрежещущий грохот танков. Танки мчались, спасаясь, на запад. Балашову казалось, что один из них катит прямо сюда, на него… Но танк прошел мимо, метрах в пятидесяти от сарая. Им вдогонку ложились снаряды, грохотали разрывы. Один снаряд поднял столб земли возле деревни, другой ударил метрах в ста от Ивана, в поле комья мерзлой земли упали на крышу сарая.
Разрывы снарядов… Разрывы! Разрывы!!
И в этом грохоте Иван услыхал, как, может быть всего в километре от него, вступили в бой пулеметы, а за ними послышался крик, далекий, многоголосый. Как его не узнать — русский победный клич, наше «ура!»
Вскочить, побежать туда!.. Не было сил больше лежать в сарае. Иван выполз на снег и, приподнявшись на локтях, как тюлень на ластах, лежал снаружи, возле сарая, силясь хоть что-нибудь разглядеть. Однако теперь сумерки скрыли все, только было слышно, как опять шли по дороге машины. Вдруг вспыхивала перестрелка из автоматов и пулеметов. Невдалеке, за дорогой, рвались гранаты, поднялся крик «ура», но было никак не понять, с какой стороны.
Ползти вперед, на дорогу?.. Там слышался гул голосов, но чьих?
Балашов лежал в нерешимости, когда раздалась на дороге песня с каким-то, как рокот моря, мощным напевом. Расстояние не давало ему разобрать слова.
«Да, так поют победители! Так может петь только русский, только советский народ! Это наши, наши!» — кричало все в существе Балашова. Он вскочил во весь рост и пошел к дороге. А песня приближалась ему навстречу.
Он остановился невдалеке от дороги, стоял и слушал. Теперь он мог в этом рокочущем море мужских голосов расслышать слова:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Горло и грудь Балашова сдавило радостной болью. Из глаз его лились слезы, но он их не замечал. Он распахнул руки, как будто хотел всех обнять, разом всех! Еще несколько неверных, дрожащих шагов к дороге — и он разглядел в снежном сумраке ночи движущиеся ряды красноармейской пехоты. Они шли, отбивая уверенный шаг по немецкой земле, и пели:
Идет война народная,
Священная война…
— Братцы! Товарищи! Здравствуйте! — закричал Балашов, разрыдавшись от счастья…
Глава четвертая
Есть человеческие чувства и переживания, о которых немыслимо рассказать. Как найти слова, чтобы выразить, что ощущал и что передумал Балашов, когда кинулся к красноармейцам, которые шли по дороге! Он плакал…
Красноармейцы уже знали облик концлагерников. Они понимали и то, что этот человек изголодался, что он истомлен не только неволей, но длительным ожиданием казни, утратой товарищей. Когда он рассказывал им, как в эти последние дни, ожидая их, он рвал расшатавшимися зубами сырое кроличье мясо, как грыз сухие зерна гороха и необмолоченного овса, который впивался в десны щетинками, как недвижно лежал один в снежном поле, красноармейцы слушали его, как родного брата, который все же остался в живых, вырван у смерти, несломленный, хоть и измученный пленом и пытками. И они его накормили, согрели товарищеским теплом, и Балашов почувствовал, что сам уже может шутить и смеяться. Ему было радостно видеть вокруг крепких, обветренных, сильных людей с бодрыми голосами и громким смехом, вызванным добрыми грубыми шутками. Они его приняли в свою красноармейскую семью, приняли просто, по-братски. Они были полны сейчас радостью последних побед, радостью окончания войны и скорого мира.