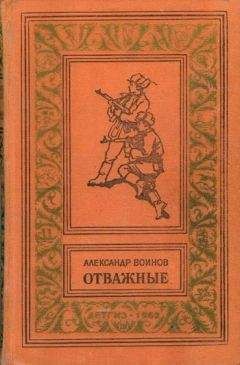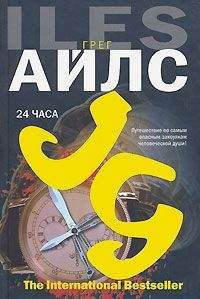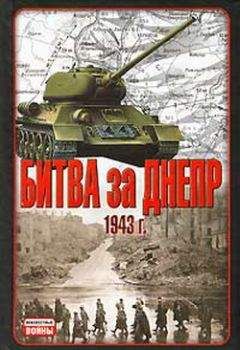Анатолий Заботин - В памяти и в сердце (Воспоминания фронтовика)
Забегая вперед, скажу, что когда в селе Борисово Покровское, где я теперь живу, устанавливали такой памятник, мне стоило немало трудов составить действительно полный список сложивших голову на войне (я был в то время председателем сельсовета). Могу с чистой совестью сказать — никого не забыли. И у перестраховщиков на поводу не пошли.
Не раз и я мог оказаться жертвой войны. Но всякий раз судьба берегла меня. Не иначе ангел-хранитель был неотступно рядом со мной. А ведь был случай, когда снайперскую винтовку немец нацелил именно в меня. И на спусковой крючок нажал. Но его пуля сбила с моей головы только пилотку. И, конечно, до смерти перепугала меня. Случилось это днем, когда я возвращался от комиссара Тришина. Шел по траншее пригнувшись. Спина быстро устала, решил на секунду выпрямиться, тут снайпер и поймал на мушку мою голову. Пилотка слетела продырявленная.
— Ну, политрук, ты в рубашке родился! — воскликнул, узнав о случившемся, командир роты. — Не иначе мать за тебя Богу молится.
А неделю спустя смерть снова осенила меня своим крылом. Я шел вот так же ходом сообщения. Было раннее утро, а ночью пролил дождь. В ходах сообщения по колено грязи, ноги не вытащить. Метров пятьсот я шел, теряя силы. Гимнастерка и брюки сплошь в грязи. Дальше идти уже не мог, устал. Решил вылезти из траншеи. День, думаю, пасмурный, до переднего края далековато. Вряд ли немец заметит меня. Вылез, иду кромкой траншеи. И вдруг — д-р-р-р! — очередь. Пули взбили фонтанчики земли у моих ног. Вот тебе и пасмурный день, и передний край не близко. Углядел меня, выходит, немец. Я матюкнулся со злом. Не дожидаясь другой очереди, быстренько спрыгнул в ход сообщения.
Немец, наверное, был доволен: заставил меня снова идти непролазной грязью. А может, решил, что убил меня, прибавил единицу к своему боевому счету. Был и еще один случай, который можно отнести к разряду мистических. Правда, уже гораздо позже, ближе к концу войны. Мы отдыхали в каком-то доме недалеко от переднего края. Сидели на скамейке, мирно беседовали и чувствовали себя в относительной безопасности. Зашла санинструктор. Я вежливо подвинулся.
— Садись рядом.
И почти в ту же минуту грохот. Мы попадали на пол. Встали, в воздухе кирпичная пыль клубится. В стенах дыра. Противотанковая болванка пробила стены насквозь. Никто не пострадал, кроме санинструктора — ей начисто снесло голову.
Будь снаряд осколочным, мы бы все там остались. Не подвинься я...
Был ли это случайный выстрел, сделанный впопыхах, или артиллерийский корректировщик заметил движение вокруг дома и вражеские артиллеристы целили именно в него, а заряжающий по ошибке вставил в ствол бронебойный снаряд — трудно сказать. Но теперь не оставляет меня мысль, что именно молитвы матери берегли меня.
* * *
Наши бойцы, надо сказать, не дремали. Особенную активность проявлял снайпер. Жаль, что был он один на весь батальон.
Каждое утро этот спокойный и немногословный боец брал винтовку с оптическим прицелом и отправлялся на охоту. Он так и говорил: «На охоту пошел». Место его было на левом фланге батальона. Очень удобное место! Щелкал он немцев умело и вскоре отучил их болтаться на виду. Наших винтовок они не боялись, не всегда доставал их и «максим». А снайперская винтовка била метко. Впрочем, потом и пулеметчики наловчились стрелять.
Со дня на день ждем наступления противника. Ждем в полной боевой готовности. Для отражения атаки стоят наготове и пушки, и пулеметы, и противотанковые ружья. Готовы и бойцы. Но противник что-то не торопится, прячется в своих окопах. Нет и нам приказа о наступлении. В оперативных сводках Совинформбюро каждый день одно и то же: «Бои местного значения». Хотелось бы приободрить бойцов, сказать им о близком окончании войны, почитать газетную статью на эту тему. Но таких статей в газетах нет. Правда, часто печатается Илья Эренбург. Его статьи я читаю бойцам, и они слушают с интересом. Но и в этих статьях — ни слова о приближающейся победе.
В конце мая пришло, наконец, сообщение: в районе Харькова наши войска перешли в наступление. Я тут же побежал с этой вестью к бойцам. Рассказываю и от волнения захлебываюсь, а у бойцов улыбка не сходит с лица. Наконец-то наша армия приступила к изгнанию врага!
Но при обсуждении этой вести голоса бойцов разделились. Одни говорили, что немцу нас не одолеть, потому он и с наступлением на нашем фронте не торопится. Другие считали, что немец еще силен и на Москву он обязательно пойдет: недаром же нас об этом предупредили. А в Харькове, мол, наши пошли в наступление из тактических соображений, чтобы отвлечь силы противника от Москвы.
Да, радость была велика, но продержалась недолго. Мы, политработники, каждый день ждали сообщений о победах наших войск, об освобождении городов, но сводки Совинформбюро были настолько скупы, что солдатам и сказать-то было нечего. Приду во взвод, окружат меня: «Ну, как там, на юге? Какие города освободили?» А я молчу: сказать нечего. Как потом выяснилось, наступление в районе Харькова, предпринятое по настоянию самого верховного главнокомандующего Сталина, почти тут же захлебнулось; тысячи наших командиров и красноармейцев попали в плен... А я-то мечтал оказаться там, под Харьковом. Да и товарищи звали. С ними я подружился еще в Горьком, более недели был с ними в Ельце. Всем хотелось быть вместе, но судьба нас разлучила: они поехали на юг, под Харьков, а я один оказался среди защитников Москвы. У многих был мой домашний адрес. Кое-кто успел со мной списаться. Но после тех боев я ни от кого не получил ни одного письма. Не иначе все они погибли или попали в плен.
* * *
Пара слов о нашем окопном житье-бытье.
Не знаю, как на других фронтах, а у нас, хоть мы и были на главном направлении, с кормежкой было плоховато. Кормили два раза в день. Норма хлеба — четыреста граммов. Полученные на взвод буханки старшина делил поровну на каждого. Кто-то из бойцов отворачивался, чтобы не видеть эти куски, а старшина клал руку на один из них и спрашивал: «Кому?» Боец отвечал: «Иванову». «Петрову» или «Политруку», «Старшине». И так — до конца, пока весь хлеб не будет поделен.
Котелки были не у каждого, выдавали их, как правило, один на двоих. Я, например, ел вдвоем со своим заместителем Таракановым. Он, как мы договорились, следил за чистотой котелка. Вымоет и вместе с ложками отнесет в наш КП, то есть в погреб. Там, на специальной полочке, хранились и наши гранаты, и патроны, и вот этот видавший виды котелок, а также ложки.
Поделюсь кое-какими наблюдениями.
Заметил я, что тот, кто должен скоро погибнуть, начинает как-то беспричинно тосковать. Так было с Сергеевым, о котором я уже рассказывал. И вот заместитель командира роты сержант Осмоловский тоже вдруг нос повесил. Тянет с утра до вечера заунывную песню: «Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется». От этой песни и у меня мороз по коже. «Прекрати, — говорю, — не ко времени твоя песня. И сам встряхнись, держи выше голову». А сержант только горько улыбнулся. И опять за свою похоронную песню. Уж я и ругал его, и стыдил, а он знай ведет себе эту мелодию: «Не для меня придет весна...» И что же? Суток не прошло, как немецкий снайпер уложил его наповал.
Был у нас командир роты химзащиты лейтенант Корогот. Этот, с кем бы ни встретился, твердил одно: «Всё! Погибнем здесь! Перебьют нас всех! Никому не спастись!»
Я уважал Корогота, считал, что он не из трусливого десятка. И понять не мог, откуда на него нахлынула эта паника: «Погибнем. Никому не спастись!»
Я послушал и говорю:
— Глупости все это. Жертвы, конечно, будут, но всех никогда не перебьют. А вам и бояться-то нечего: вы не на передовой, а в тылу.
— Нет, нет, все погибнем! Погибнем! В первом же бою!
Я пожал плечами. А Корогот, как оказалось, искал попутчика в наш тыл. Бежать к немцам с пропуском в руках он не решался, а пристроиться где-нибудь в тыловых частях был не прочь.
И вот однажды слышу от Тараканова:
— Начхим-то наш, Корогот, пропал!
— Как пропал? Убит?
— Сбежал, видать. Ни в живых, ни в раненых, ни в убитых его нет.
Неделю спустя узнаем: действительно сбежал. Подговорил молодого бойца из своей роты и подался в тыл. В Белеве их задержали. И, как рассказывали, судили. Вернули на передовую искупать вину кровью. Хотелось мне увидеть его, поругать, но он, к сожалению, был направлен в другой батальон. И, говорят, разжалован в рядовые. Дальнейшую судьбу его узнать мне не удалось.
* * *
Приближалось лето 1942 года — первая годовщина Великой Отечественной войны. Участились разговоры об этой «круглой» дате. Думал ли кто год назад, что война так затянется: ведь мы привыкли думать, что любого врага разобьем «малой кровью, могучим ударом»... Вспоминаем, кто, где и как узнал о начале войны, что делал в тот роковой день, 22 июня 1941 года. В штабе батальона родилась идея день начала войны отметить огнем. Ожесточенным огнем по врагу. Показать ему нашу силу.