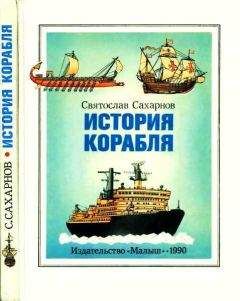Александр Литвинов - Германский вермахт в русских кандалах
И Сенечка вынес пузо свое на крылечко. Помордел. Голова с животом слилась, штаны на подтяжках. Щеки как у бульдога и, наверно, видны со спины. Вот такой теперь Сенечка-братик, которого мы защищали со Степой.
— Этот? — Сенька глядит на меня, и сытая харя его лошадиною мордой становится. — Этого я не видал. Его б до завтрева оставить, чтобы заместо похмелюги показывать гостям. Глянешь — и враз отрезвеешь, прости меня, Господи!
— Глупости все это, Сеня, — говорит она брату. — Пусть выпьет несчастный.
И ручкой мне машет. Я подошел. Была — не была… Она мне стакан наливает. А глаза мои сами слезятся, будто сквозь дым гляжу на нее. Вижу так близко. Волнуется, вижу. Стакан подает, а рука… Рука не девчоночки-школьницы, а женщины в силе. И вижу: рука неспокойная…
— Где ты Женечку видел, солдатик? — меня тихо так спрашивает.
— Мы в одном с ним полку воевали, — говорю другим голосом, не похожим на собственный мой. Мне казалось тогда, что хитрость моя удалась. — По двадцать с лишним вылетов имели.
— А потом? — громче спрашивает.
— А потом он в Прибалтике где-то упал.
— Его сбили, и он погиб?
— Да брешет он все, сестренка! — скорчив рожу брезгливую, Сеня брюхатый вмешался. — Он же за рюмкой приперся, ханыга! Да он Женьку и близко не видел!.. Чем вот докажешь? Ну-ка, соври!
— Сеня, иди к столам. Это мой праздник, иди.
На меня ненавидяще зыркнул тот Сеня и смылся. А мне стало легче, что узнать во мне прежнего Женьку они не способны.
— Ты скажи мне, солдатик, Женя погиб или что?
Набрался я духу и бухнул:
— Погиб, — говорю, — бляха-муха!
«Бляха-муха» ко мне прицепилась на фронте, так что я не боялся быть узнанным.
— Ты это видел?
— Видел, — говорю. — Я был в том бою.
— Как он погиб? Самолет отказал или что? Парашют не раскрылся?
— Он в воздушном бою «мессершмитта» таранил, когда закончился боекомплект.
— Да! — сказала с радостью. — Фашиста таранил! Такой был Женечка мой! Никто другой так не сумел бы! Спасибо, солдатик, что с души моей камень снял.
А сама улыбается, слез не стыдясь. И такая красивая!.. Лучше прежней. А мне горько и больно за себя покалеченного…
— Значит, погиб, — в раздумии проговорила тихо. — А мне приснилось, что Женечка будто бы жив, что в плену… А он погиб, как сокол настоящий! — говорит она громко и наливает мне стакан. И рука моя в жгутах ожоговых к стакану потянулась по чистой скатерти белой. Она в руку мою уставилась глазами большущими, брезгливо содрогнулась и от стола отшатнулась, но справилась с собой. И губы собрав в пучок, уже не глядя на руку мою, а куда-то вбок, помолчала, пока я стакан выпивал. Вздохнула с облегчением, как мне показалось, и проговорила, почти шепотом:
— Ну, миленький, прощай, — сказала. Налила мне еще стакан и сала шмат на скибку хлеба положила. Я выпил и трезвым пошел со двора.
— Прощай, мой хороший! Прощай! — сквозь слезы сказала мне вслед, каким-то голосом уже другим. А у меня внутри перевернулось все.
В ту ночь я не ложился спать…
— Говоришь, не узнала тебя? — глядя в окно, мама в раздумье прошептала. — Скорей, рисовалась она… А, пожалуй, боялась признаться, что узнала тебя. Вот как бы она потом от тебя отвязалась! Вот как? Видно, этого больше всего и боялась…А я б только Степину тень увидала!.. И закричала б, наверно, заголосила во всю мою душу истерзанную… А ты говоришь, что любила…
Мамка у калитки
Она за калитку не вышла, как Валерик просил, а встала за куст сирени, чтобы тайком, незамеченной глянуть. Волнуясь, она поднялась на носочки, хотя и так хорошо была видна входившая в улицу колонна.
Сыпанина шагов, как дробь барабанов, все сильней нарастала, подступала все ближе. И росла неуверенность: сможет ли без подсказки найти среди пленных похожего на Степана?
— Сыночек, ты рядом будь! — прошептала Валерику и настороженной птицей, тут же готовой взлететь, затихла.
Вот колонна все ближе.
«Господи, Боже ты мой! — засуетилась она. — Они же сейчас пройдут, и я не успею узнать!» Лихорадочно шаря глазами по лицам унылым, она в ветку сирени вцепилась.
— Мамка, смотри второй ряд!
Она охнула, как обожглась! И дыхание замерло в ней. Не готовой она оказалась сходство такое встретить!
И пальцы ее задрожали, к губам поднесенные. И глаза ее ждущие распахнулись! Все, что видели, — жадно вбирали! Да возможно ли сходство такое!
С ненасытной пытливостью в немца глазами вонзилась, до боли сердечной, до горькой обиды, в душе отмечая, что это не он! Что видит одно беспощадное сходство!..
И, видимо, крикнули что-то глаза ее страстные, иначе б зачем было немцу тому столько раз на калитку оглядываться!
— Господи, что ж это? Господи!.. — пораженная сходством немыслимым, простонала она. — Как похож! Господи, как он похож… Не верится даже, что это не Степа… Поседел только очень. И походка тяжелая…
И с ревом, по-бабьи, ей так закричать захотелось, чтоб мир этот злой и жестокий распался бы вдребезги, и к людям обиженным правда б явилась. Чтоб стихшее в ней, отстонавшее, все отболевшее, что как в сундуке, в ее сердце слежалось, — вдруг бы вышло наружу с этим криком отчаянным, душу из пут вызволяя!
На дорогу хотелось ей выскочить! Прямо в колонну!
«Может, это и вправду Степан? Увидит и вспомнит! Воскреснет, и вспыхнет забытая радость!.. О Господи, что это я!.. — простонала, хватаясь за сердце. — Совсем потерялась…»
Колонна прошла, а она все глядела ей вслед, не чувствуя слез.
— Похож, правда, мам?
— Но, сыночка, это ж не он!
— Да он это, мамочка! Фриц!
— Но Фриц же не папка, сыночек! — с волной протестующей боли взмолилась она, сознавая горячность свою, но сейчас не могла удержаться.
— А ты с ним познакомься! Может, и вспомнит, как только увидит тебя! — стоял на своем Валерик, внушая ей то, во что сам уже веровал. — Ты только скажи, и мы с Фрицем придем.
— Да, да, — машинально она обещала и, смежив глаза, воскресить попыталась увиденное. И колонна опять потекла перед ней, охватив ее душу смятением. Все еще не затихшее в ней взбудоражилось с новою силой, всколыхнулось и обострилось, словно в прошлом своем побывала.
Потрясенная, уходила она от калитки, и поникшим плечам было холодно и одиноко. Хотелось, чтоб кто-то ее пожалел. И ревом хотелось реветь. Отреветься, чтоб сразу за все! И за то, что тот немец так больно похож на Степана, и что муку вселила в себя, и что с этой минуты образ мужа стал зыбким и слиться стремится с образом немца, а там и погаснуть грозится беззащитной свечой на ветру… Но слез уже не было.
И стала она по утрам выходить на работу пораньше, чтоб в сирени тайком постоять, потерзать свое сердце и прошлое вспомнить. И шептать как молитву с тихой болью и жалостью к пленному:
— Господи, как он похож!.. Как похож!.. Господи, Боже ты мой, что же мне делать? Как же мне жить, Боженька Милостивый?
И под сладким наплывом чувств, что годами таила в себе и держала в смирении, вышептывать стала с греховною радостью:
— Будто Степушка мой!.. Как соскучилась я по тебе!.. Этот немец!.. Он не знает, что я наблюдаю за ним. Наблюдаю и плачу… Привыкаю, наверно, к нему! Боже мой, я когда-нибудь так закричу! Так завою! И вырву его из колонны! Из отупелости рабской!.. На меня чтобы глянул глазами Степана! А там — будь что будет! Вот только не вижу, какие глаза у него. А вдруг голубые, как были у Степы!
«Были», — впервые сказала себе и не огорчилась, что о муже подумала, как об ушедшем навеки.
А дома спросила Валерика:
— Сынок, а какие у Фрица глаза? Цвета, какого?
— Какого? — пожал он плечами.
— У нас троих — глаза голубые!
— У меня, у тебя и у Фрица?
— У меня, у тебя и у нашего папы! — строго взглянула на сына. — При чем же тут Фриц?
— А зачем тогда спрашиваешь? — Валерик обиделся. — Какие да какие? Простые! Взяла б, да и познакомилась. Тогда б не спрашивала и не подглядывала из сирени.
Слова эти больно ее стеганули. Смутилась и покраснела, не зная, что сыну ответить. Подошла к умывальнику и, намочив полотенце, к лицу приложила:
«Как девчонка краснею. Чуть что — и, пожалуйста, как светофор… Ну, Валерик!..»
И на Степанов портрет увеличенный, что висел над столом, глаза подняла. И тепла, что всегда исходило от улыбки его, — не почувствовала.
— Почему ты на папу глядишь подозрительно?
— Другая какая-то стала она… фотография. Смотрит куда-то мимо… И не мне улыбается. И чужой он какой-то… Нездешний…
Валерик лишь молча вздохнул, вину понимая свою. Не порвал бы он карточку, улыбался бы папка маме, на нее и смотрел бы…
Антифашисты
Во всеобщем немецком безвеселии выделялся Вальтер своим поникшим безволием. И в глазах его серой печали не теплился луч даже робкой надежды на избавление от унижений со стороны товарищей по плену.