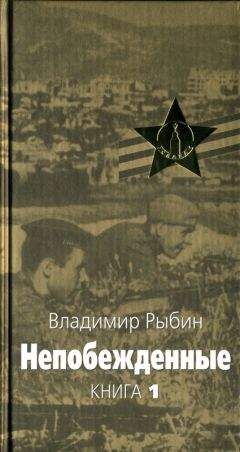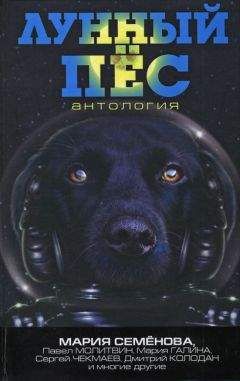Мария Рольникайте - Свадебный подарок, или На черный день
— Вы от Винцента?!
— Нет. Я к нему. Я — мама Бори Зива.
Господи, как они испугались!
— Вы не беспокойтесь. Никто меня не видел. И я совсем ненадолго, только спросить…
— О чем? — У Сонгайлы даже голос задрожал.
— О своем сыне, Борисе. Я думала… Мы с мужем думали, что они вместе, ваш Винцент и наш Боренька.
— Боже упаси!
Сонгайле явно стало неловко за вскрик жены.
— Извините. Но они… не вместе. Винцента вывезли. В Германию, на работы.
— Когда… вывезли?
— Во вторник, — зарыдала Сонгайлене. — В прошлый вторник.
…А Боренька должен был прийти к нему раньше.
— Ты иди, приляг, — попросил ее Сонгайла. Но она замотала головой. — Хорошо, хорошо. Только не волнуйся. — А сам волнуется. — Такое совпадение… Была облава. Искали какого-то коммуниста, из тех, которые остались вредить немцам.
…Не Бореньку. Он же не коммунист.
— Я ходил в полицию. Сказали, что у задержанных только проверят документы и отпустят.
— Документы у Винцента были надежные, — опять не выдержала Сонгайлене. — Он работал на фабрике. И не коммунист он. И не шел против власти.
Муж поспешил подтвердить:
— Да, да, очень надежные. И его бы, наверно, отпустили, но им как раз надо было отправлять транспорт в Германию. А добровольно, сами понимаете, никто не едет.
— Извините… — Наконец она смогла заговорить. — Извините, что разбередила вашу боль. Но я хотела что-нибудь узнать о Бореньке. Думала — он был у Винцента.
Сонгайлене вдруг перестала плакать, будто окаменела. Чуть не силой Сонгайла стал уводить ее из передней.
— Идем, тебе надо прилечь. Полежать. А вы извините, я только помогу жене. Ей нездоровится. Сейчас вернусь.
— Ничего, ничего. Вы меня тоже извините. — Но это она сказала уже закрытой двери.
Знала бы, что Боренька почему-то сюда не приходил и что она своими расспросами еще больше расстроит родителей его друга, ни за что бы к ним не пошла.
Она только спросит, где Владик живет, и сразу уйдет. Еще успеет до комендантского часа. Сейчас уйдет.
Здесь тепло, очень тепло. Сонгайлы, наверно, и не замечают этого. И что чисто, светло, не замечают. У них горе. Такое горе!
Сесть бы в тот, свободный угол, вытянуть ноги, прислониться к стене, и сидеть, сидеть…
Нельзя. Это в гетто и сидели, и лежали на полу. Здесь нельзя.
Не успокоит Сонгайла жену. Материнскую боль ничем не успокоить. Разве что сама она эту боль спрячет. И не будет плакать. Нельзя оплакивать раньше времени.
Вот он, кажется, идет.
— Извините меня. — Сонгайла еще больше взволнован. — Но жена в таком состоянии, я очень беспокоюсь за нее.
— Понимаю. Я сейчас уйду. Только не знаете ли вы, где живет Владик?
— Кто?
— Друг наших сыновей, Владик.
— Где он раньше жил, я примерно знал. Но его…
— Что?!
— Его забрали.
— Тоже?! А когда?
— В самые первые дни. Всю семью забрали. Кто-то донес, что его отец симпатизировал Советам, что сам Владик был комсомольцем.
Да, что он был комсомольцем, она знает. Потому и надеялась, что Боренька пошел к нему, с него и хотела начать. Но не знала, где он живет.
Сонгайла ей что-то говорит…
— …Для Винцента мы сделали за кухней укрытие, на случай ночных гостей. Увы, не помогло. Его на улице взяли, по дороге с работы. Но укрытие мы не разобрали. Этим поддерживаю в жене надежду, что только на время взяли. И не в самую Германию вывезли, а куда-нибудь недалеко строить укрепления. Что он скоро вернется.
— Я вам и вашей жене желаю этого от всего сердца.
— Спасибо. Оставайтесь на ночь у нас. Чтобы не рисковать, не возвращаться так поздно в гетто. Ведь скоро комендантский час, на улицах усиленный патруль.
— Спасибо. Вы не знаете, кто мог бы мне сказать что-нибудь о Борисе?
— Нет, к сожалению. И, пожалуйста, ради бога, только жену об этом не спрашивайте. Вы же сами видите, в каком она состоянии.
— Не беспокойтесь. Я не буду ее тревожить. Пойду к другому их товарищу, к Антону. Правда, не знаю, где он живет.
— Вам вряд ли следует к нему идти. Я имею в виду — это ведь тоже небезопасно.
— Теперь все опасно.
— Понимаю. Тем более, зачем лишний раз подвергать себя риску. Скоро комендантский час, а у нас есть укрытие.
— Но вам же запрещено оставлять у себя таких, как я. — Зачем она это сказала? Вот он кивнет — да, запрещено, отодвинет эти засовы, и она должна будет уйти отсюда.
Но он не кивает. Только руки дрожат.
— Нельзя вам сейчас уходить, поздно, патруль вас задержит. Я обещал жене напомнить вам об этом.
Не надо напоминать. Она это знает.
— Спасибо.
— А утром, пока не рассвело, все же не так опасно вам идти по улице.
Они оставляют ее здесь. На целую ночь. Она всю ночь будет в тепле. Какое счастье!
— Спасибо. Дай вам бог дождаться сына.
Целую ночь она будет в тепле. А к Зелинскису пойдет завтра. Рано утром, пока не рассвело.
Если бы ноги хоть немножко больше слушались, она бы тоже шла быстрее, как все эти люди. Утром положено торопиться — на службу, в очередь за хлебом, еще куда-то. У каждого живого человека свои заботы. Ей тоже надо идти быстро. Чтобы не вызвать подозрений. Но что поделаешь… Ноги в тепле еще больше отекли.
Это ничего. Можно потерпеть. Она же отдохнула за ночь. И согрелась. Особенно в ванне. Поела. Вчера вечером целую тарелку супа съела, и сегодня утром. Даже с хлебом.
Сонгайлы очень славные люди. Хорошо, что Боренька дружит с Винцентом.
Да, есть еще порядочные люди. Есть. Это в гетто казалось — не найти. Правда, Даня долго искал. Но нашел же! А Сонгайлы сами предложили ей остаться. Пусть только на одну ночь, но ведь предложили. И что ей хочется помыться, догадались. И хлеба с настоящим чаем потом, уже в укрытие, просунули. Еще иголку и две пуговицы, — конечно, заметили, что вместо них только нитки торчат.
Было бы хорошо, чтобы Зелинскис и Дане предложил помыться.
Главное, чтобы согласился их спрятать. Там же во дворе есть сарайчик для дров. Если они с Даней укутаются в старые одеяла, то не замерзнут. А Зелинскис, когда придет за дровами, принесет в кармане что-нибудь поесть.
Это Даня так придумал. Зачем она спросила, что они будут делать, если Зелинскис откажется? И что он мог сказать?
Не надо думать об этом. Надо выглядеть как все, — ведь человеку, который идет по тротуару и без звезд, не о чем горевать. Хотя теперь у всех есть о чем.
Она должна добраться до аптеки, пока не рассвело. Нельзя ей быть на улице при дневном свете. Правда, и при вечернем нельзя. Но что ей теперь можно?..
Дойдет до аптеки, дойдет. Плохо только, что о Бореньке ничего не узнала.
Даня, конечно, будет недоволен ею. «А если бы тебя там задержали?» Так она же не к чужим людям пошла, а к Боренькиному другу. «По дороге могли задержать». Что правда, то правда. Могли.
Но туда ведь добралась. И сейчас доберется. Только — она чуть не остановилась от этой мысли — аптека еще, наверно, закрыта! Когда Зелинскис ее открывает? Куда деться? Скоро рассветет.
Некуда деваться. Она должна идти так же, как идет. Медленнее нельзя. Да и не поможет это, аптека уже совсем недалеко, за тем углом. Зайти в какой-нибудь подъезд и переждать тоже нельзя. Туда войдет кто-то или будет выходить, а она — на виду. Кто такая? Почему здесь стоит?
Мимо аптеки она прошла, не поднимая головы. Все равно видела, что жалюзи на окнах и на двери задвинуты. Даже разглядела, что в правом окне чуть белеет прежняя фарфоровая чаша, обвитая чучелом настоящей змеи. Зелинскис очень гордится, что эту змею он когда-то сам отловил.
Так куда же она идет?
Никуда.
Сказал бы ей кто-нибудь раньше, до войны, что доведется так вот брести по улице, не зная, куда идти, в какую щель себя спрятать от дневного света, не поверила бы — не может такого быть. Оказывается, может…
Да, во многое она тогда не верила. Не то чтобы совсем не верила, но когда беда где-то далеко и своими глазами ее не видишь, она вроде и не совсем беда. Ведь когда Даня, не доработав в клинике Фанзена, раньше времени вернулся из Берлина и рассказал, что там творится, она думала, что он преувеличивает. Это оттого, что он слишком близко принимает к сердцу все, что касается его Германии.
Очень он тяжело переживал, что Гитлер набирает силу, что такое множество немцев пошло за ним. А когда Гитлер занял Чехословакию с Австрией, и Францию, и Польшу, на Даню больно было смотреть, так он осунулся и постарел. Она, конечно, тоже переживала и, как все, боялась, что Гитлер на этом не остановится, но пока здесь жизнь еще была жизнью, а дом — домом, меньше, чем Даня, думала об этом. А Даню беспокойство не отпускало. Только он по обыкновению молчал.
Вдруг сзади послышалось знакомое постукивание множества ног о мостовую. Но ведь уже утро. Значит, их ведут на работу. Только на работу.