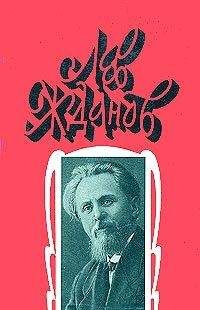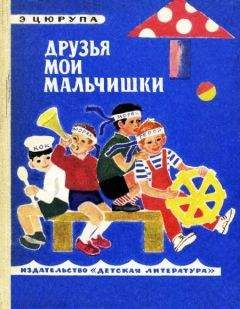Илья Чернев - Семейщина
— Не наш ты теперь, Леферий Дементеич… Поди и бабу себе из наших девок брать не станешь? — говорил лукаво иной бородач, раскланиваясь с парнем на улице.
— Хорошую девку почему не взять, — стесняясь прямоты вопроса, уклончиво отвечал Леферий.
Чтобы обиды отцу с матерью от народа не вышло, стал он с первых же дней ездить с братьями на пашню, вникать в хозяйство, а чтоб не было обиды и самому от мужиков, зачастил на гулянки — с девками, с парнями судачить.
Вскоре Леферий перестал быть предметом любопытства: парень как парень, городского из себя не шибко-то корчит. Но тут вдруг открылась за ним неслыханная оказия: по деревне покатился слух, будто Леферий собирает у себя в горнице малолеток, по букварю их грамоте обучает.
Разгневался Ипат Ипатыч, пастырь, на такое Лефершино своевольство. Какое ему дело, что батюшка-покойник Дементеева сынка на еретицкую грамоту благословил? Не слыхал он об этом.
У него, пастыря, одна забота: старую веру, старый крест, старый обычай в чистоте беречь.
Уставщик вызвал к себе Дементея Иваныча, — хмур, строг, одного ершика испугаться можно.
— Ты что ж это, Дементей Иваныч, вольничать сыну дозволяешь? Грамотей он у тебя… лучше б грамоту свою антихристову при себе держал, чем господа бога гневить. На то у нас своя школа имеется, где слову божью, а не антихристову, учим… Пусть-ка он кинет дурь эту. А не кинет, пошли ко мне. Ни один солдат уволенный еще не додумался до этакого безначалия и ереси.
Слово осуждения было произнесено.
Дементей Иваныч не стал долго у пастыря задерживаться.
— Вот, Леферша, напасть… чистая оказия, — озабоченно сказал он сыну, — ты эту мелкоту по домам шугани. Уставщик из-за тебя все семейство еретиками ославит…
Хотел было Леферий до уставщика самолично идти, да мать кинулась, чуть в ноги не упала:
— Не гневи, сыночек, Ипата… не кликай беды во двор! Слезно просила — и Леферий распустил свою самочинную школу.
Ипату Ипатычу было с чего гневаться. Спокон веку книжная мудрость в руках уставщика, и он один волен учить народ уму-разуму. Где это видано, чтоб ребятишки бегали не к уставщику, а к приезжему из города? Чтоб таскали они яйца и сало не начетчикам Ипатовым, а самустителю, возомнившему в гордости и, чего доброго, в вероотступничестве своем, что он постиг тайны вселенной? Не бывать тому!
В домашней школе Ипата Ипатыча — строгость, чинность, благолепие. Ребята тихо сидят вкруг стола и, чуть зазевался кто, одурь ли нашла от долбежки, — начетчик так урежет паренька лестовкой по рукам, аж подскочишь. Зато слово в слово, за начетчиком, вытвердишь «Апостола», святое писание уразумеешь, научишься петь псалмы и молитвы на клиросе…
— А по-светски что, непреходящий грех живой. От городского грамотейства не жди псалмопения, помощи в церковной службе, — опричь ереси, — одобряли старики пастыря, приструнившего Дементеева Лефершу.
Большой докукой для Дементея Иваныча явилось избрание его старостой — великая честь от мира. Дементей Иваныч был польщен этой честью и по примеру уважаемых стариков степенно оглаживал пятерней свою короткую и редкую бороду. А докукой это почетное избрание стало оттого, что в Никольском открыли волость, и хлопот старосте надбавили.
Не давал покоя Дементею Иванычу и разрастающийся разлад с отцом и его семейством. Пуще первой невзлюбил он вторую свою мачеху. И то сказать, Соломонида Егоровна куда прежней позанозистей, спуску ему с самого начала ни в чем не захотела давать. Язва, — иначе и не называл он ее в своих мыслях.
Всякий раз, как с Обора доходили вести о прибавлении батькина семейства, Дементей Иваныч мрачнел:
«Корми экую ораву… и язви их в душу! Навязались на мою голову, анафемы постылые! И откуда у старика заводятся, — оказия!» Заодно с мачехой Соломонидой возненавидел он и ее отпрысков.
— Нашлись тоже братья и сестры! — не скрывал Дементей Иваныч своего презрения и неудовольствия.
Но по-настоящему стал ему поперек горла старший сын мачехи Ермишка. Черномазый паренек, по его мнению, самим видом своим позорил славный род, уважаемое семейство.
— Цыган, вот, ей-богу, цыган! Что в нем семейского? — возмущался Дементей Иваныч.
Любимец и баловень матери, Ермишка с ранних лет обнаружил строптивость, бычье упрямство, был криклив, вороват, отца ни во что не ставил, а того меньше, наблюдая стычки матери с Дементеем, уважал старшего неродного брата.
Ермишка рано начал вертеть на заимке по-своему, диктовать в семье свою волю. К тому ж он был на удивление прожорлив и отлынивал от всякой работы: за чем ни пошлют, обязательно убежит.
— Разорит такой… а потом спалит… От Царя всего жди! — делясь дома своими оборскими впечатлениями, накалялся Дементей Иваныч..
За своенравие и дикую настойчивость он иначе и не называл Ермишку:
— Как хочет, так всеми и крутит. Не видывал еще такого уроса (Урос-упрямый, своевольный, норовистый)! Как есть царь! — И он прикидывался, будто жалеет отца: — И что он молчит, ведь его-то заездят!..
Однажды на Оборе у проезжего почтаря пропали рукавицы.
Иван Финогеныч поискал-поискал и грустно поник головою: «Неужто Ермишка?» Ему не хотелось верить, что вор — его сын. Никогда у семейских этого не водилось — мелкой вороватости, честность и простота считались добродетелью и в семье Леоновых.
— Ермишка, не видал ты дядиных рукавиц? — строго спросил он.
— Не! — не смущаясь, откликнулся черномазый мальчуган.
— А може, видал? — допытывался Иван Финогеныч. Разговор происходил в избе… От печки прянула Соломонида Егоровна, затряслась, заголосила:
— Пристал, старый хрыч!.. Вы с Дементеем нас ворами ославили!..
И пошла, и пошла…
Иван Финогеныч досадливо плюнул, — и ушел из избы.
Для Дементея Иваныча было бесспорно: рукавицы украл Царь…
Упорно наводил он взрослых своих сынов на мысль о том, что Ермишка — вовсе не от Ивана Финогеныча, что мачеха изменила старику, — «она таковская!» — все ведь помнят, что по Обору в те годы кочевали цыганские таборы… Царь ленив, нечист на руку, совсем не похож ни на батьку, ни на матку.
— Как же, скажите на милость, не цыганская кровь!
Как-то зимою Дементей Иваныч заявился на Обор с Максимом. Пока пили в теплой избе чай с привезенными из дому черемуховыми тарками, Царь отвязал Дементееву каурую кобылу, вспрыгнул на нее — и давай гонять по двору. Кобыла сердито заржала, — шутка ли, двадцать пять верст отмерила, да еще заставляют!
Дементей Иваныч привстал с лавки, глянул в окошко и, увидев проделку Царя, задрожал от ярости:
— Максим, выди, пужани его вожжами! Кобыла пристала, а он ишь!..
Максим вышел к лихому наезднику, но Царь показал ему язык и верхом, как был, выскочил за ворота.
— Чтоб ты подох! — прохрипел Дементей Иваныч. Вздрогнув, Соломонида Егоровна забренчала чашками… И вот уже вспыхнула ссора, тяжелая, безобразная, — мачеха и пасынок обрушили друг на дружку потоки непристойных слов. Иван Финогеныч и Максим тоскливо молчали и прятали глаза.
— Разделюсь, коли так! — заорал Дементей.
— И делись, антихрист с тобой! — безбоязненно ответила мачеха.
Рябое темное лицо ее вытянулось больше обыкновенного, подбородок будто заострился.
Тут привстал с лавки Иван Финогеныч:
— Дележом, Дёмша, не пугай… не маленькие.
— Да и я не маленький, чтоб ездили на моей шее!
— Кто же ездит? — с зловещим хладнокровием спросил старик.
— Будя, будя! — тревожно взмахнул рукою и густо покраснел белоголовый приземистый Максим. — Не дам делить дедку… не дам.
— Кабы не Максим, по-другому б я с вами поговорил! Без раздела не встал бы с этого места!
С этими словами Дементей Иваныч бросился вон из избы — искать Царя.
Он скоро нашел его, но бить не решился, — сердце уже перекипело.
Дума о разделе с батькой с этого дня крепко засела в Дементеевой голове…
Самым крупным, неожиданным и потому ошеломляющим событием, окончательно выбившим Дементея Иваныча из колеи, явилась война: она уж совсем не оставляла времени для пугающих раздумий о промашке.
3Подпирая крыльцо волости, народ запрудил улицу, облепил прясла и заплоты. Большой начальник из уезда, в светло-сером сукне, оглянул сверху полукружье пышных бород, обнаженных голов, кашлянул и начал читать царев манифест.
Сунув большие толстые пальцы за тканый выпестренный поясок, Дементей Иваныч стоял поодаль начальства. «Оказия… отколь такая война взялась? — размышлял он. — Ерманцы какие-то».
Каждый из стоящих внизу прикидывал в уме примерно то же самое: ерманец — в какой стороне объявился? Незнаемый, неведомый народ!
Прочитав манифест, начальник из уезда обнадежил: не одни мы воюем, полсвета, многие другие державы на германца поднялись, а он один.