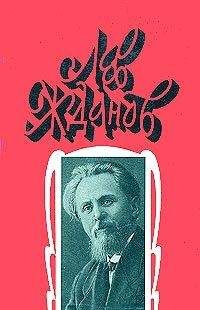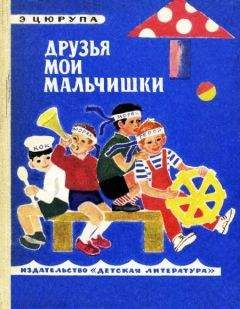Илья Чернев - Семейщина
— Дедушка Ипат дома? — повторил Дурачок.
— Да на что он тебе? Дома.
К окну подошел сам Ипат Ипатыч. Это был не тот, прежний уставщик, некогда благословивший Дементеева Лефершу на городскую ученую жизнь у амурского дяди, а его сын, — целое поколение Ипат Ипатычей сменяло один другого на посту хранителя древних устоев благочестия в селении Никольском. Подобно покойному батюшке, и этот Ипат Ипатыч был сив, благообразен, волосья на голове ершиком.
— Дедушка Ипат, — дергая щекой, заверещал Емеля. — дедушка Ипат… они коней к цыганам погнали… ей-бог, погнали!
— Какие цыганы? Что хомутаешь, — давно в нашей стороне цыган не слышно.
— Ей-бог, — твердил Емеля. — Они погнали много-много.
— Да кто они?
— Елизар, мужики.
— Елизар Константиныч?
— Он самый. И мужики.
Уставщик залился клокочущим смешком:
— Елизар связался с цыганами!.. Дурак, дурак и есть! — И он захлопнул окошко.
Емеля Дурачок обескураженно поплелся вдоль улицы своей обычной походкой, — приплясывая на одну ногу.
Вершники скакали во весь опор к чернеющим на зеленом ковре Тугнуя бурятским отарам.
— Покос совсем другой дорогой, — показал Цыдьп кнутовищем в провал дальних сопок. — За Косотой…
— Помолчи! Надо овец перво-наперво поглядеть.
Цыдып тревожно качнулся в седле, — зачем семейщине понадобилось вдруг бурятских овец осматривать: неладно это.
— Куплять баран хочешь, али как? Я баран не торгую, зачем без хозяина глядеть? — спросил он.
Не отвечая, Елизар Константиныч вытянул руку вперед:
— Этих ты пасешь?
Цыдып утвердительно мотнул головою.
— Чьи они?
— Которые Намсарая, которые Цырен Долбаева, Хусе Доржиева… разны.
За перерезающей степь поскотиной на целую версту растянулась овечья отара. Кучерявые тонконогие животные, потрясывая курдюками и выщипывая бархатистую траву, текли колеблющимся руном по увалу. За отарой на степной кобыленке шагом ехал подросток с длинным хлопающим бичом. Пастушонок тянул на одной ноте унылую улусную песню.
— Это и есть, на кого ты пастьбу кинул… этот парень?
— Как же, он.
Цыдып недоумевал: почему Елизара, первого богача на деревне, так занимают случайно встретившиеся чужие овцы, почему он пристально всматривается в это море колыхающейся шерсти, будто ощупывает ее руками?
Елизар Константиныч что-то шепнул скачущему рядом Астахе. Тот помчался вперед, наперерез пастушонку с бичом. Трое мужиков по неприметному знаку Елизара взяли Цыдыпа в кольцо взопревших коней.
«Эге… Худо! Худо идет», — содрогнулся Цыдып.
Он хлестнул и пришпорил степного бегунца, но, ударившись о зад Панфиловой кобылы, конь его взвился на дыбы.
— Погодь маленько, — вырывая из рук Цыдыпа поводья, спокойно сказал Иуда Константиныч.
Цыдыпа взяла оторопь. Но ему уж приказывали. Будто сквозь сон слышал он пронзительный визг сшибленного наземь, скрученного веревкой пастушонка. Будто сквозь сон доносился к нему властный голос Елизара:
— Показывай, еретик, которые намсараевские, долбаевские, доржиевские…
Цыдыпа сняли с лошади. В страхе перед непонятными действиями Никольских богатеев Цыдып безвольно шагал под их конвоем и пресекающимся голосом отвечал:
— Вот это Намсарая… те долбаевски… доржиевски… Совсем-совсем мало. Нойоны (Нойон — богач из родовой знати (бурятск.)) гоняют свой табун на ту сопку. — Цыдып взмахнул кнутовищем в направлении марева далеких увалов.
Он простодушно рассуждал сам с собою: сказать правду, что тут больше всего бедняцких овец, — не отстанут ли?
В волнующуюся гущу блеющих перепуганных овец врезались конные и пешие и по указке Цыдыпа с трудом отделили нойонский скот.
— Ну, эти пускай гуляют… Этих не трожь, — предостерег Елизар Константиныч. — С сильным не борись, с богатым не судись.
— Что верно, то верно, — поддакнул Панфил Созонтыч.
Бедный Цыдып, как его правда обернулась против него! Мокрыми глазами следил он, как мужики погнали гурт по степи в деревню… а может, на дальнюю заимку? Что скажет он юртам, потерявшим по десяти-двадцати голов… последних голов!
«Дурак, дурак! — клял он себя. — Не иначе, бохолдой-шайтан в насмешку толкнул меня вчера к Елизару… Сдал покос!»
— Развяжи мальчонку, накажи ему — ни гу-гу! И ты молчи. Молчи, а не то убьем! — суровый Иуда Константиныч крепко двинул оторопевшего Цыдыпа в бок и поспешил догнать своих.
Бедный Цыдып, — разве заставишь молчать пастушонка! Разве поверят в юртах, что он, Цыдыпка, не помогал грабителям… Всесильный Намсарай похвалит за верную службу, но… защитит ли от ярости ограбленных, обездоленных? Один путь ему — гнать без останову коня в беспредельную даль степей, скрыться за сотни верст в незнакомом, чужом улусе. Пропади пропадом покос, жалкий скарб пастуха… Все равно, одна дорога!
Хитро рассчитал Елизар Константиныч: нойоны палец о палец не ударили в защиту бедных своих сородичей, — их дело сторона! Пастушонок толком ничего показать не мог. Цыдып бесследно исчез… Пошумели-пошумели улусники, да и отступились. Где искать? Не пойдешь же шарить по русским заимкам!
И на семейской стороне все обернулось гладко. Пока на заброшенной заимке стригли краденых овец, валяли добротные потники и войлоки для продажи, а которую шерсть и прямо в мешки пихали да свежевали туши, — сколь прибыли Елизару Константинычу и всей честной компании: и шерсть, и мясо, и кожа! — тем временем Астаха Кравцов заявился в хошунный (Хошунный — волостной (бурятск.)) улус Хуцай прямо к самому братскому старшине.
— Цыдыпка-пастух у вас сбежамши… так он покос свой запродал Елизару Константинычу, — закричал он.
Заплывший жиром старшина-истукан после муторного молчания, — не прочтешь ведь на лице: откажет или нет, — сплевывая табачную слюну на земляной пол продымленной юрты, спокойно процедил:
— Бери, мне что. Нам покоса своего хватит. Раз продал…
Встретив Елизара Константиныча в сборне, уставщик отвел его в сторону:
— Емелька Дурак… тебя видал.
Серые кошачьи глаза уставщика вонзились в купца. Тот не смог выдержать строгого пастырского взгляда: потупился, заморгал.
— Не таись, — с укором произнес Ипат Ипатыч. — Куда вас эстоль бежало? Дружки ведь мы с тобою…
Как на духу, Елизар Константиныч поведал пастырю о грехе своем.
— Да и грех ли то, если облегчил ты душу свою на нехристях поганых? — тоном утешения сказал пастырь.
В воздаяние мудрости Ипатовой и во искупление содеянного, — Ипат ли Ипатыч, дескать, не замолит! — богатей в тот же день отправил пастырю бараньей свежинки, шерсти малую толику да курдючков.
А через три дня никольцы косили Цыдыпов покос — две десятины на том покосе отмерил Елизар Константиныч миру, а мир — уставщику.
Ипат Ипатыч благословил косцов:
— Богородица сердитая прошла, — сенокосу самое время. Кто в сердитую себе скосил, не остерегся, тот должен за грех великий сено ко мне во двор возить…
По осени Ипат Ипатыч прибыльно торговал через зятя сеном в Заводе.
Елизар Константиныч с братьями и зятем Астахой считали, что и они не в убытке, не захиреет теперь их торговля.
— Ну, держись, Николай Александрович! — весело говорили они. — А главное — все шито-крыто…
Только один Панфил Созонтыч — он получил, понятно, свою долю из общей нескудной добычи, — чувствовал себя неспокойно. Голодный блеск в глазах его с этой поры уже не угасал. Чаще и чаще уединялся он к себе в, горницу, становился на колени перед медноликими складнями и жадно замаливал свой последний, неоплатный, ему чудилось, грех перед господом. Тугнуйский набег был, по словам всезнающих людей, второй его гирькой, тяжести которой он уже не смог снести.
8Иван Финогеныч ехал с почтой в Малету, что за хилоцким паромом, — обычный, примелькавшийся путь долголетнего ямщика — через дабаны, мохнатые перевалы, звонкие ручьи. На крутых спусках он натягивал вожжи, и тогда длинные мослатые его руки казались вторыми оглоблями.
Эх, и крутеньки же эти дабаны и дабанчики! Но привык он к ним за многие годы, и не о них думал сейчас. «Не судьба, видно, — сидя на козлах, рассуждал он сам с собой, — не судьба было пожить со второй бабой… Жаль ее — пильновитая, обходительная, под шубой горячая, но… ведь не родная жена, — настоящей привычки к ней не завелось и тоски по утрате настоящей нету… Потерял бабу, без новой не обойтись, к старости, — на седьмой десяток давно перевалило, — бобылем оставаться — живая тоска».
Иван Финогеныч сморщил мясистый свой нос: жениться по третьему разу ему показалось зазорным — старики осудят его, деревня осмеивать начнет… Однако к Малете подъехал он с твердым намерением взять стряпуху-домовницу… Мало ли вдов без дела шалаются, горе мыкают?