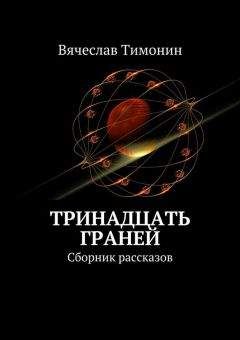Сто первый (сборник) - Немышев Вячеслав
— Ты знаешь, а Шура девушка не плохая, — мать сделалась задумчивой, и морщинка через лоб потянулась. — Не везет только ей в жизни. Мужик ей попался — гадкий человек. Бил ее. Кому ж хорошо так жить? Разошлись… Она считай два года без мужа, одна. Ленчику ейному шесть скоро. Он мальчик воспитанный. Вообще, семья ихняя приличная.
Мать хотела еще подложить каши, но Иван замотал головой — не лезет больше.
— Ты ешь, сына. Оссподи, а щеки-то! Аж светится сквозь.
К вечеру засобирался Иван: надел глаженное Шурочкой и пошел не мимо Болотниковых двора, а в обход через зады, по соседней улице. Болоту встретишь — не отобьешься тогда от стакана.
Шурочка отправила мальца к матери. Они пили чай и ждали ночи. И ночью все было так, как мечталось Ивану…
На третий день Иван встретился с Ленчиком, столкнулись нос к носу во дворе. Ленчик губу выпятил:
— А мамы нету. Она за мааком ушла.
Ленчик ухоженный: рубашонка на нем в клетку, воротнички в стороны аккуратно разглажены, ботиночки тупоносые. Похолодало. Ленчик нараспашку. Хлобыстает его ветер, под рубашонку задувает.
— Простудишься, — сказал Иван мальчугану, вроде как, вместо «здрасте».
Ленчик надулся, но с места не двинулся. Кулачки сунул в карманы. Сзади скрипнула калитка. Иван обернулся. Шурочка опустила под ноги бидон с оббитыми боками.
— Ленчик, молока тебе принесла. Чего ж ты голый?
Тот теперь, увидев мать, не побежал к ней, но с чувством полного достоинства и уверенности, что он главный мужчина в этом доме, так как мать ни кому-нибудь, ни дядьке этому лысому, а ему Ленчику принесла молока, развернулся и потопал по бетонной дорожке. Уселся на крыльцо.
— Хозяин, — хмыкнул Иван.
— Что ты! — Шурочка радостная, что неловкая ситуация сама собой разрешилась, подхватив бидон, подталкивает Ивана. — Уж такой хозяин… Он общительный. Это с первого раза характер показывает. Ат, сорванец… сказала ж ему, чтоб свитер надевал. Слышь, чего говорю-то, Ленчик, оденься что ль.
Всю первую неделю после возвращения Иван провел у Шурочки. Ленчик привык к нему, не отходил ни на шаг. Иван воды натаскать, и Ленчик с ведерком пластмассовым бежит. Иван курить усядется на крыльце, и малец рядом пристроится, смотрит на Ивана, спрашивает о всяком. То, почему ты лысый такой, то, отчего у тебя на голове полоска розовая? Иван за топор дрова поколоть. Ленчик боится топора, отойдет на безопасное расстояние и из-за поленицы смотрит. Иван стукнет, исподтишка скосится на мальца. Весело обоим. Но Ленчик не забывает, что он хозяин: когда в дом идут, первый летит к крыльцу. Растянулся — зареветь хотел, но видит, что Иван смотрит, и не стал плакать.
Мать Ивану ничего не говорила. Отец хотел, было, спросить, но мать его одернула, чтоб не совался. Она уже решила про себя, что пусть — хоть и разведенка, хоть и не первым будет Иван у нее, да зато при хозяйстве. Соседка — большое дело. Не шалавистая. Девки — как в город уедут, считай, пропала. Срамотно смотреть. Из-под юбчонки все видать, нате берите не жалко. Шурочка — степенная, старше Ивана. Может, сын ее рядом с такой доброй женщиной успокоится, заживет по-человечески.
А по селу поговорили, перемололи. Через три дня сгорел гараж на птицеферме, и стало всем не до Ивана с Шурочкой. В магазине бухгалтерша с птицефермы рассказывала продавщице, как горел гараж. Когда вошла Иванова мать, обе примолкли, а потом бухгалтерша, как бы невзначай, и спросила, мол, скоро свадьба-то? Мать отшутилась. На этом все шуры-муры и закончились.
В июне уехал Иван с отцом на гречишные поля под Гумрак — с Болотниками вместе на их «буханке» и укатили. Семья пчелиная разрослась. Наколотили они с отцом пяток новых ульев.
— За тобой черед, сына, — говорил отец. — А что, глядишь и вы с Шуркой пчеленка состряпаете. Из досок, веток и травы соорудил Иван шалашик. Как остался один, — отец с Витькой поехали обратно за следующей партией ульев, — нарадоваться не мог соловьиному концерту. Как мечтал он о таком вот одиночестве, — когда, раскинувшись в шалашике, можно лежать и думать о будущем, что, может, и правда появится на свет его Иванов пчеленыш. А как назвать? Жоркой, конечно, в честь брата. Мать-то, мать… Ух, она станет ходить за внуком… или внучкой. Девка?.. Тоже ничего. Девчонку пусть Шурочка называет. Имен красивых много — хоть Татьяной, а хоть Ольгой можно. Лишь бы душе пелось, да дышалось легко, как вот в этом шалашике — среди душистых ранних трав, да соловьиных пений. А Ленчик?.. Что ж, так тому и быть — усыновит он Ленчика. Пацан растет правильный, да и привык он уже к нему. Глядишь, скоро станет называть его папкой. Эх, хорошо! Бывают, значит, исключения, выходит, прав был попутчик.
Прав…
В то время заявился из города в Степное бывший Шурочкин муж, отец Ленчика.
Шурочка на следующий день шла по селу, закутавшись платком. Мать, как увидела синяки, давай ее расспрашивать, а потом говорит, чтоб та Ивану не сообщала, не то убьет он паразита, Ленчикова отца. Грех страшный будет. Но все случилось по-другому.
Вернулся на Гумрак к пасекам Витька Болотников. Отцы остались по домам. С ним оказией увязался брательник: выпимши был старший, ну и все Ивану рассказал про то, как «старый Шуркин муж гонял свою, что слышно было на полсела».
Витька поумней братца — кинулся Ивана держать. Иван ему приложил, не разбираясь. Рухнул Витька на спину ровненько на шалашик. Шалашик и развалился под здоровенным Витькой. Очухался — матерится на старшего болтуна. Да толку… Иван прыгнул в болотниковскую «буханку», за ним по проселку только пыль столбом. Пока ехал, колес не жалел, но ближе к дому поостыл Иван: «Только скажу, чтоб проваливал, не буду бить, не буду…»
Зашел Иван в дом — пусто в кухне. Он в комнату. На кровати лежит тело: затылок взъерошенный. Сопит в подушку. А подушка та, на которой они с Шурочкой ночью соловьев слушали и о всяком замечательном разговаривали. Иван схватил незваного гостя за шиворот и поволок к дверям.
Ленчиков отец, хоть и пьяный был, но стал понемногу приходить в себя — понять не может, в чем дело — давай хвататься по сторонам за все подряд. Посыпалось с полок, занавеска рухнула с карнизом.
— Ты куда… кто? А-а… хахаль Шуркин!.. Чмо-о!! Положь…
Очухался Ленчиков отец и давай материться. Мужик здоровый — рыхлый, крупней Ивана. Да Иван жилистый.
— Ах, ты, чмо! А-а соседский… Этта ты, что ль, инвалид контуженый? Присоседился к чужому добру, голодрань! Вали из маего дома, чмо! — и с пола поднимается, а кулаком метит Ивану в голову. Да промахнулся.
Иван побелел — и ударил в ответку. Ударив раз, пошел уж лупцевать Ленчикова отца, — тот и прикрыться не успел. Иван ему с первого удара нос в кровь. Тот теперь корчится на полу. Иван по нему сверху ногами месится; зашелся — и аж пена изо рта. По сторонам глянул — молоток на полке. Схватил. И убил бы… Да вдруг кто-то на руке повис. Шурочка. Она не кричала, а так тоненько стонала: — Ни-ии… ни нада-аа, Ваня, ни-ии… Да что ж это, брось, брось! Уходи, оставь его, не смей! — вдруг она закричала, но не бархатным, а злым холодным, чужим голосом: — Убирайся вон! Оставь, тебе говорю… Что ж ты сделал, идиот?! У тебя совсем, что ли мозги там, на твоей войне поотшибало? — понесло Шурочку. Иван так опешил от ее слов, что выронил молоток и стоит как оплеванный: а ни утереться, ни уйти не может — ноги руки онемели. — Что ты, Шура? Я ж… он же… Смотри, вся щека у тебя. — Урод, — упал платок на плечи: волосы нечесаные у Шурочки, слезы из глаз, на щеке синячина с кулак, и веко подплыло фиолетовым. — Тебя кто просил лезть не в свое дело? Ты что ли кормить меня станешь? Да тебя самого нянчить еще. Защитник нашелся! Мне терпеть — не тебе. Всю жизнь от вас… выродков, терплю. Одна гадина мучает, да хоть деньги дает. Ты-то куда?.. Чего я теперь делать стану — на твою пенсию жить, инвалид чертов? Может, и простил бы Иван Шурочке сказанное в горячности. Отошел бы потом, и помирились бы они с Шурой: чего в жизни не бывает — чего не скажешь по злобе дорогому, любимому? Самому близкому и скажешь обидное: то, что чужому нельзя, неприлично, то своему отчего не сказать — все одно простится потом. И простил бы Иван. Но тут Ленчик в комнату вошел — увидел все: мать растрепанную, отца своего в крови на полу. Ленчик к Ивану мелкими шажками подбежал и давай колотить его ручонками, а потом поднял лицо и со слезами сказал: — Ты гад, гад… Это папка мой. А ты гад, дядька чужой.