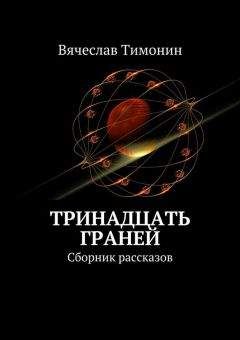Сто первый (сборник) - Немышев Вячеслав
Шурочка стояла на пороге, куталась в цветастый с рюшками платок.
Была она белокожей, что редкость для южанок, остроносенькой; платок ладно сидел на ее покатых плечах. И так все в ней гармонично расположилось — и шея сочная белая, и руки полные, и бедра крутые, — что казалась она Ивану не то чтобы сильной, но надежной. Такой, — что уедет мужик в дальние дали, а дома у него все будет в порядке: и чистота в комнатах, и подушки в наволочках одна на другой, и квас холодный к приезду.
Весной в степи пахнет травами.
Чебрец сильно душистый, но тот в июне, а майские ночи свежи на дух: акация цветет, тюльпаны, мать-и-мачеха, вишня с абрикосом. С первого майского сбора меды легкие — не для лечения-профилактик, а для баловства, для сладкоежек. Иван ранний мед ложками уминает. Отец ворчал всегда. А чего ворчал? Медовое оно ж по губам течет — и меру не почувствуешь, — раз попробовал, всю жизнь на сладкое будет тянуть.
Иван, как и положено, стал прощупывать почву: слышал от матери, что развелась Шурочка со своим, — выгнала мужа по той же причине, что и Болота когда-то получил в лоб связкой с ключами.
Шурочка спиной к нему; плечом повела, когда он стал рядом.
— Мать переживает… — начал Иван издалека. — За Жорика тоскует. Она жалела его, малой потому что был. Батя гонял его… А тебя не узнать, подобрела… в смысле, ну, то есть… — он смутился. — Давно не виделись.
— Да уж, соскучилась прям, — отшутилась Шурочка. — На домашнем и ты раздобреешь. Носит тебя… А я помню, как на моей свадьбе ты стоял, где георгины у вас, а мы мимо шли. А Болота, охальник, стал поперек улицы и не пускает. Помнишь? Глаза у тебя…
— Что глаза? — бычится Иван, суровость нагоняет, прячется со света в темень.
— Да такие же волчачьи. Страсть! Как взглянешь, аж мурашки, — она передернула плечами, потянула на грудь платок.
— Какие есть. К бате претензии.
Почувствовал Иван, что, на самом деле, Шурочка добра к нему. Разговоры строгие так, для виду, чтоб не возомнил себе: чтоб не подумал о ней, что кидается она, разведенка, к первому встречному. Хоть и не случайный человек Иван, а так положено — этикеты и все такое. Из дома народ повалил. Болота громче всех горланит, увидел Шурочку.
— А-а, саседка!
Потянулся к ней лапищами, а от самого чесночиной прет и самогонкой. Иван сморщился: галдешь такой ему не кстати сейчас.
— Меня-а не любишь?
Шурочка уперлась ему руками в грудь и толкает, отшучивается. Гомонится народ на крыльце.
— Уйди, дурак, дай с человеком поговорить.
Болота фокус навел на Ивана.
— Братан, ты не обижай ее. Ух, не любит она меня. А тебя полюбит? Шиш. Она пра-авильная!
Его окликнули:
— Болота, пошли с нами, водки пожрем.
А пойдем… Ванька, за раками поедем? Да не нынче. Как тогда, помнишь? — и пошел Болотников старший с компанией, пошатываясь и подпевая себе под нос про берег крутой и орла степного сизого.
Шурочка засобиралась идти.
— Пойду я, там Ленчик, сына… у мамы моей. Он не любит когда меня долго нет, — и будто вспомнила важное: — Вань, ты жалей мать. Она и по тебе переживает, думаешь, не понимает, как ты намаялся?
И сказала она последние слова так, будто все переживания материны знакомы ей, и показалось Ивану, что сама она за него печется. А почему? Да кто так сходу поймет бабью душу, страдания ее — печали? Молод Иван — ему рано пока разбираться в таких житейских тонкостях.
— Ну, с приездом тебя, слава богу, пойду.
Иван решился.
— Ты… это… провожу что ль?
Шурочка замерла на вздохе, шагнула с крыльца.
— Чего уж, два дома идти… Ну, впрочем, как пожелаешь.
Они пошли по улице. Может, и угнетало обоих неловкое молчание, но вечер был один из таких, когда не нужно слов. И ночь завладела миром. Сонным, ленивым брехом перекликались дворовые собаки, замычала корова, где-то рявкнул и заглох мотоциклетный мотор. Ветер утих, и недвижимый, уставший от дневной суеты воздух наполнился запахом цветущих акаций. Отпели соловьи свои любовные трели. Стихли звуки. Птица-ночь вольно раскинула свои черные с крапинами ранних звезд крылья.
Они шли медленно.
Иван взял Шурочку бережно под локоть.
— Кочки, ямы. Витька по грязи вечно нароет своей «буханкой», — вроде как оправдался Иван.
Мимо Болотниковых двора прошли, и уже вслед им неожиданно в наступившей ночной тишине брехнул цепной кобель Шалый — дурной, короткохвостый азиат. Шурочка ойкнула и прижалась к Ивану.
— Кобелина чертов! Вся порода у них такая брехучая! Как иду, знает, а все одно кидается… Что ты, что…
Иван, воспользовавшись моментом, вдруг с силой обхватил Шурочку, притянул к себе. Поискав губы, нашел быстро — впился в них жадно, будто боялся, что отнимут у него, не разрешат…
…Уснули они, когда отголосились третьи петухи, а на улице младший Витька Болотников завел и прокатил под окнами тарахтучую «буханку».
Когда Иван открыл глаза, Шурочки рядом не было.
Хлопнула дверь где-то в доме — пахнуло стряпней с кухни.
Иван потянулся. За стенкой послышались голоса, один детский. Иван подумал: Шурочкина мать Ленчика привела. Стало ему неловко: задрал одеяло до подбородка.
Шурочка вошла в комнату с кружкой в руке.
Иван сощурился, вроде как со света. Она присела на кровать.
— Выпьешь? — Иван скривился. — Не бойся, не похмелка. Молока холодного тебе принесла. Я пьяниц страсть как не люблю.
Иван глотнул из кружки, и от затылка оттянуло тяжесть. Допил большими жадными глотками.
— Сама-то вчера… Тебе на работу?
— Ну-у! В кои то веке… Какая работа? Сегодня ж воскресение, — она ласково ткнула его в лоб. — Проснулся… А ты полежи еще. Или твои искать станут?
— Чего станут, я малой что ли?
Шурочка улыбнулась, потянувшись, полной белой рукой провела по одеялу, где был живот Иванов.
— Дурачок ты. Вы ж для матери всегда малые. А тебе покушать надо, а то и вояка из тебя теперь никакой, да и работник… — она еще раз критически глянула на всего Ивана, и закраснелось ее лицо. — Хотя нет, работник из тебя получится.
Слова эти смутили Ивана окончательно. Он кивнул Шурочке на стул, где лежала одежда. Сказал, что пойдет, что пора уже. Да и пацан может увидеть его.
— Ни к чему это, — Иван заискал глазами. — Рубашка где?
— Поглажу, подождешь? Ой, там утюг у меня!.. Я скоро. Посиди пока, вон телевизор включи.
— Мать что ль не выгладит? — насупился Иван. Неудобно, конфузливо ему стало, но приятно, черт возьми.
— Мятая просто. Мне ж не сложно. Я быстро.
И сказала это Шурочка так, словно вину за собой чувствовала, будто оправдывалась перед Иваном за вчерашнюю свою бабью слабость. И не винила сама его, что он воспользовался ею, а только просила взглядом не думать о плохом, что плохого кругом мести — не вымести. И чего себя мучить? Случилось, так случилось: люди они взрослые, самостоятельные.
После уж оделся Иван в глаженое, жадно, как ночью, поцеловав Шурочку в теплые губы, прячась от Ленчика, пошел к себе.
Хотел Иван незаметно пройти, да сразу завалиться спать. Но мать ждала его. На столе разложила порезанный крупно хлеб, масло в масленке, молоко. На плите шкварчит в кастрюльке.
— Позавтракай, сынок, — сказала и закружилась от стола к плите, кашу ему в тарелку стала класть. — С пшенца, на масле. Кушай, сынок.
Ивана довольный, что мать не пытает его расспросами, схватился за ложку, обжигаясь, стал глотать кашу.
— С краюшку подбирай, горячее, ожжешься, — и спросила все-таки: — У Шуры был?
Иван набил полный рот, запил молоком. Кивнул неопределенно и снова носом в тарелку. Мать стояла рядом, сложив руки под грудью, как тогда с Жоркиной фотографией.