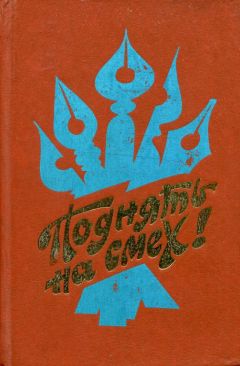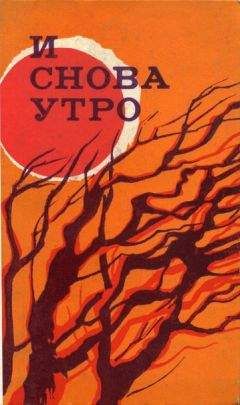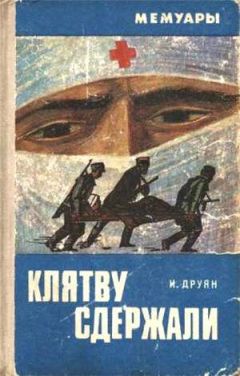Ибрагим Абдуллин - Прощай, Рим!
Ильгужа тает на глазах. У него отняли единственную его утеху — письма жены. Когда привезли их в Раквере, забрали все до последней пуговицы, сложили в кучу и сожгли. Пеплом развеялись письма Зайнаб, только в сокровенном уголке сердца хранились слова, написанные в порыве искреннего, негасимого чувства. А газета, которую подсунул Косой, словно бы всю душу ему наизнанку вывернула. И от Сталинграда, и от Москвы далеко еще до его родного Урала, но как может Урал жить без Москвы?..
Всю ночку ту не спал, кряхтел и сопел носом Дрожжак. Он в Сталинграде родился, рос, рыбкой шустрой резвясь в могучей Волге, а на СТЗ впервые взял в руки молот… Отдать Сталинград — все равно что сердце живьем вынуть из груди. Утром его перехватили, когда он возился, прилаживая петлю на шею.
Все забылось: болезни, голод, тоска по дому. Пленные присмирели, поменьшели ростом. Лишь одна мысль, одно слово судорогой сводило сердце: «Родина… Неужто так и не хватило сил? Нет… Ведь и за Волгой наша земля. Есть Урал, Сибирь, Средняя Азия…»
Понял Леонид свою ошибку, но поправлять было поздно. Прежде чем читать вслух, следовало, конечно, самому хоть одним глазком, да пробежать газету. Может, это и впрямь не наша, не настоящая «Правда», а подделка геббельсовских брехунов? Может, Косой спектакль тогда разыграл, человек он дошлый, на гадости ума у него хватит. Немцы-то бесятся, рвут и мечут оттого, что мало удается им сыскать среди пленных предателей. Вдобавок они прекрасно видят, что тех, кто идет к ним на службу, трудно и людьми-то назвать — так, отброс один.
Как же добраться до истины насчет Косого и его газеты? Где найти ту самую живую воду, которая могла бы взбодрить товарищей? Раздуть огонь, все еще (Леонид в это верил неколебимо) сохранившийся в их растерзанных сердцах?
В один из таких, самых тягостных дней, когда даже в собственной душе с трудом удавалось высмотреть едва тлеющую искорку надежды, в лагерь пригнали пополнение. Среди новоприбывших был и старший политрук Салих Мифтахов.
4
Наряженный, как и все, в полосатую арестантскую робу, он ничем среди других не выделялся. Невысокого роста, а на взгляд Леонида, даже вовсе маленький, с впалыми щеками (впрочем, мудреное это дело — сыскать в лагере круглощеких), чрезвычайно вежливый и, пожалуй, даже застенчивый человек. Голос глуховатый, по-русски говорит здорово, но порою чувствуется акцент, присущий большинству татар: вместо «ц», особенно если этот звук приходится в конце слова, произносит «с», «х» выговаривает твердо, а «ч», наоборот, смягчает…
Немцы сразу же прозвали его Лайземан, то есть Тихоня. Да, такой же, как все. И едва ли бы он привлек чье внимание, если бы не эти его темно-карие глаза, в которых были ум и глубина. Людей невольно тянуло подолгу смотреть в них: так порою притягивает к себе глубокая заводь или лесное озеро. Обменявшись взглядом с Мифтаховым, человек чувствовал, что в его душе оживает что-то очень важное, может быть, самое главное, но по непонятной какой-то причине забытое. Леонид решил сойтись с ним поближе.
— Из каких вы краев будете? Лицо что-то вроде знакомое? — слукавил он, чтоб завязать разговор.
— Из Казани. А вы?
— Я из Ленинграда. Моя фамилия Колесников.
— Ага, стало быть, из города, в котором я учился.
— Где учились-то?
— Да везде понемногу, — сказал, посмеиваясь, Мифтахов, то ли чтоб уклониться от прямого ответа, то ли не желая пробуждать воспоминания.
Леонид, разумеется, не обиделся. Лагерь учит людей осторожности, скрытности. У немцев уши длинные, здесь даже стены слышат.
— Ничего, если ночью после отбоя я к вам подойду? Есть о чем поговорить.
— А почему бы нам сейчас не поговорить?
— Боюсь, что времени не хватит.
Мифтахов взглядывает на Леонида. И Леонид понимает значение этого взгляда: прикидывает, не провокатор ли?
— Табачком не богаты?
— Так вам нельзя курить, товарищ Мифтахов.
— А вы откуда знаете? — В вопросе не чувствовалось настороженности, скорее он был задан из дружелюбного интереса к собеседнику.
— Да я к вам уже с первого дня приглядываюсь и душой тянусь. Вы, похоже, как раз тот человек, которого мы ждали.
— А какого вы человека ждете?
— Такого, как вы.
— Какой же, по-вашему, я человек?
И Леонид решил пошутить:
— Тот, которого мы ждем.
— Вы ждете… — Янтарные глаза стали совсем темными, сосредоточенно-внимательными. — Хорошо бы, если б я мог оказаться тем самым, кого вы ждали…
Леонид перевел дух. Стало быть, лед сломан. Теперь уже можно спросить напрямик.
— Вы коммунист?
— Я комиссар, товарищ Колесников.
Безоглядная откровенность Мифтахова смутила и поразила Леонида. Почему он так неосторожен? Взять и сказать такое?.. Комиссаров расстреливают без всякого разговора. Жизнь, что ли, свою ни в грош не ставит? Или сразу доверием к нему проникся? Но едва ли, не похож он на простачка. Молчать дальше — значило все испортить, поэтому Леонид поспешил сказать:
— Я так и думал.
— Не сумеете ли найти лекарство от бессонницы? Уже пятые сутки хоть бы на минуту забылся. Жмет и жмет вот здесь. Сердце, стенокардия.
Ночью после отбоя Леонид пошел в тот край барака, где поместился Мифтахов. Оказалось, что около него кто-то уже сидит. Кто же это может быть? А-а, Ильгужа Муртазин. Леонид хотел повернуться, уйти, но Мифтахов жестом предложил остаться. Предложить-то предложил, однако перебивать Ильгужу, который что-то ему рассказывал по-татарски, не стал.
Леонид, конечно, не мог понять, о чем идет речь, лишь почувствовал по интонации и по выражению глаз, что разговор завязался у них искренний, задушевный.
— Сам я башкир с макушки до пят, женушка моя — татарка до конца ногтей, а мальчишки вот ни дать ни взять русскими растут. Бывало, скажу им по-башкирски: салям!.. А они отзываются по-русски: здравствуй, мол, папа, — рассказывает Ильгужа и сам удивляется тому, что у них в семье так получилось.
Мифтахов, видать, не осуждает, но и не одобряет. Задумчиво, словно бы вглядываясь в дальнюю даль, говорит:
— Нет на свете ласки нежнее материнской, нет в мире музыки слаще звуков родного слова, друг Ильгужа. И каждому человеку свой язык дорог, близок, мил… Мальчишки, говоришь, а?.. — Мифтахов дышит часто-часто, он то и дело замолкает, как бы собирается с силами. — Я тоже неплохо знаю и очень люблю русский язык. Понимаешь, Ильгужа, я не могу даже представить жизни своей без него. — Дыхание Мифтахова стало ровнее. Голос окреп. — Но вот ты заговорил со мной по-татарски, и я родную мать вспомнил, как бы воочию увидел березу, растущую за нашим окном. Шелест листьев расслышал. И с матерью, и стой березкой я могу говорить только на родном языке… Одно из самых больших завоеваний Великой Октябрьской революции — это наша национальная политика. Нерушимый союз братских народов!.. Гитлер и его палачи вопят о превосходстве «великой арийской расы», объявляют другие нации неполноценными, низшими. Поэтому-то фашизм обречен…
На лбу Мифтахова выступил пот, губы пересохли.
— Воды…
Ильгужа кинулся к баку — в дальний угол. Леонид подвинулся к Мифтахову, тихонько приподнял ему голову и положил под язык горошину нитроглицерина.
— О-о… — облегченно перевел дух Мифтахов. — Вот и отпустило. Ожил человек… Где вы такое лекарство раздобыли? Ведь воистину оно может вырвать из лап смерти такого, как я…
— Отто дал.
— Отто? Немец, что ли?
— Да. Вы тоже его, пожалуй, не раз видали. Сутулый, в очках. Усищи рыжие.
— Да, да… Я сразу приметил его. Все кашляет и ладошкой прикрывается… Чудесная штука нитроглицерин… Совсем полегчало. Спасибо вам, товарищ Колесников. Что он, наш человек, что ли?
— Уверенно не могу сказать, но на других не похож. И охотно помогает нам при удобном случае.
— Этим надо воспользоваться. Да и самый факт — немец, симпатизирующий нам, — чрезвычайно знаменателен…
Ильгужа принес воды в алюминиевой, крепко помятой кружке.
— Спасибо, Ильгужа. Поставь вот сюда. Вроде пока обошлось, — сказал он, потихоньку, слезая с нар. — Пойдем-ка, попытаемся с Отто поговорить. Сейчас, если не ошибаюсь, его смена.
— Когда так плохо с сердцем, вредно ходить, полежать бы надо! — запротестовал было Леонид, изрядно разбирающийся в медицине. — Подождите, чтобы боль совсем улеглась.
— На свете, товарищ Колесников, уйма вещей, вредных для здоровья. — Мифтахов накинул на плечи изодранное одеяло. — Пошли!.. Да, я все хотел спросить, не уцелел ли хоть обрывочек той «Правды», которую вам принес Косой?
— Вы разве знаете об этом?
— Я рассказал, — шепотом пояснил Ильгужа.
— Да, уцелел. Когда Косой вырвал газету, уголочек в пальцах моих остался. Я сохранил его.
— Покажите-ка! — попросил Мифтахов, когда они оказались возле железной печки. — Я-то бывший журналист. Шрифт «Правды» за версту узнаю.