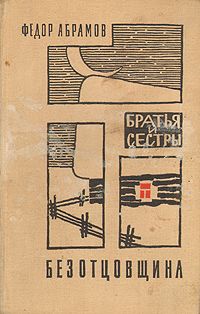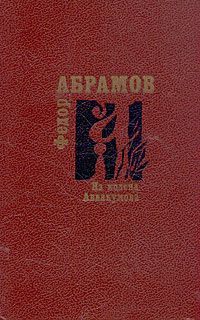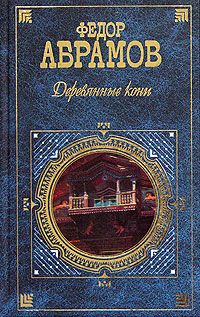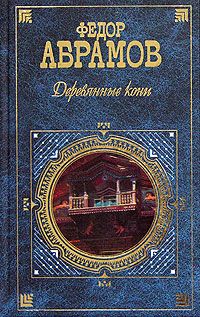Федор Абрамов - О войне и победе
Девушка, чтобы испытать силу любви, предлагает ему дезертировать из училища на два дня. Юноша совершает побег.
Возвращается, его судят, приговаривают к расстрелу. Девушка ходатайствует за него. Расстрел заменяют отправкой на фронт, в штрафной батальон.
Далее – оба освобождаются от книжной романтики, оба убеждаются, что романтика действительности выше и ярче рыцарской романтики прошлого.
Бои на окраине Петергофа. «Синие розы» накануне.
Вторые сутки без еды. Неудобная позиция – в ложбине, деревня на горе занята.
Старый командир бежал.
Новый – студент. Фланги дрогнули.
Расстрел своих.
Героическая борьба.
Маскировка пулемета – немцы засекают.
Стрельба из горящего чердака.
Отступление.
Смерть Рогинского.
Палец.
Володю Пренцова – оставили в доме.
Бессмертный
Молодого партизана немцы топят в проруби. Руками он хватается за края проруби – кромка льда. Немец тесаком отрубает пальцы на одной руке.
Партизан погружается в воду. Было темно, вьюжно, и немцы не заметили, что за прорубью большая полынья. Партизан, проплыв под льдом сажени 2–3, быстрым течением выбрасывается на поверхность воды. Мелко. Он встает, выходит на берег. Потом громит немцев, наводя на них ужас.
(Дважды рожденный).
О мысли, психологии солдата на войне, в окопе
О доме, о прошлом, и главное – о женщине, о девушке. Тоска неизбывная… У нас в литературе об этом умалчивают.
Солдат мысленно оглядывает всю свою жизнь, строго судит свои поступки и дает слово исправиться. Так думает, вдруг снаряд, пуля – и нет человека.
* * *На войне человек добреет по отношению к своим, родным и звереет по отношению к врагу.
Человек на войне – поистине игрушка. Идет, сидит, поет, думает – вдруг хлоп снаряд, и нет ничего от человека.
Картинка
Двое-трое стоят в глубоком окопе – бруствере. Курят. Пуля пробивает одному голову. Он не меняет позы. Папироса дымится во рту, потом гаснет. Товарищ зовет его, не отвечает. Подносит к папиросе спичку. В темноте освещается лицо, на нем мертвые стеклянные глаза.
Самолеты, обстреливающие окопы трассирующими пулями, похожи на гигантских мух, на какие-то ужасные машины, прыгающие на серебряных ногах.
Лошадь на минном поле.
Спасение Рогинским.
Встреча
Раненного студента солдата кладут на операционный стол. Он приходит в себя, открывает глаза, но бред еще не прошел: он видит только глаза, серые, большие – на простыне – так воспринимается им она в халате.
Потом узнает ее. Ему стыдно своей наготы. И т. д.
К рассказу «На поле боя»
Раненый солдат (я), лежа в воронке от снаряда, полузасыпанный землей и снегом, вспоминает, о чем думал раненый Андрей Болконский. И ему страстно хочется высокого, чистого, синего неба. Он с усилием устремляет глаза кверху, но там – серая, грязная муть.
…Ему вспоминается дом, сенокос или что-нибудь в этом роде – картина мирной красивой жизни – например, сенокос коллективный на домашнем.
* * *Лектор так все рассказал о войне, как сам там побывал…
* * *Ефрейтор рассказывает солдатам об устройстве винтовки.
– Винтовка як людыня мае свои частины: ствол, затвор, приклад. А людыня мае руки, ноги, голову, черево… Як ты винтовку сбираешь, то требу усе проченити до свого мистя, бо она буде деяты не так як слид.
Наприклад тобе сробили поутру разборку. Прочистили, змазали, а патим збирать поченили тибе руки, ноги, черево. А тут тривога, тебе и поченили замисто головы сраку.
Ось ты стоишь в строю ни якого воинского вида не мае: воротничек не сходится, пилотка не налазить, уси кричат: «Здравия желаю, товарищ генерал!», а ты бздишь.
Тоби-то ничего, а мини и командиру роты неприемность.
* * *Пятеро солдат и ефрейтор просятся ночевать к украинской бабусе.
Бабуся:
– Кто там?
Солдаты:
– Пустите переночевать.
Бабуся:
– Много ли вас?
Солдаты:
– Пять человек и ефрейтор. Бабуся:
Бабуся:
– Ну вы пятеро заходите, а ефрейтора привяжите во дворе.
(Бабуся приняла ефрейтора за лошадь.)
19. 1. 1956
– Ближе познакомился с Германом. Два раза ходил в баню. Ах, какой он парень! Что за чудесная душа! Какое бескорыстие. Я просто влюблен в него. Да, Герман не очень-то умен, но уж зато человек что надо. В нем с поразительной яркостью выражена доброта, незлобивость, душевная чистота и честность русского человека.
Первый выход в баню был импровизированным. Сидим на партбюро. Уже десятый час. Пишу Герману: надо идти в баню, не составишь ли компанию? Да, составлю. И вот уже четверть десятого, двадцать минут десятого, наконец полчаса. А у нас все заседание. Ну, думаю, прощай баня. Но вот кончилось бюро.
– Пошли, быстро! – говорит Герман.
– Но мне надо домой. У меня нет ни мочалки, ни белья.
– Ерунда! Мы всегда так ходим. Вот увидишь, как хорошо.
Я отказывался, но наконец согласился.
Едем на 1-ю линию. По пути забегаем в шалман. Взяли поллитра. Выпили по 100 гр. – остальное с собой.
Быстро добираемся до бани, берем веник, простыни. Почти за все платит Герман. И это платит человек, у которого такая семья и который получает меньше нас.
В бане с ним здороваются как с знакомым. Проходим к шкафам, раздеваемся. Скорей, скорей!
– Пошли?
Я оборачиваюсь к Петру и Герману. Смотрю: а Герман сидит на скамейке, без ног, живой обрубок. Пока он был на протезах, я как-то не думал, что у него нет ног. А тут – беспомощный калека. Был на ногах и вдруг без ног. Но что особенно потрясло меня – виноватая, беспомощная улыбка на лице Германа. Улыбается так, как будто он в чем виноват, как будто хочет извиниться передо мной. Здоровенный дядя с виноватой, заискивающей улыбкой. (Улыбка ребенка!) на толстом, грубовато-толстом, грубоватомужицком лице!
Кое-как я освоился, хлопнул Петра. А тот привык.
– Погоди, погоди. Посмотрим, кто сильнее.
– Да ты не смотри, что Петро такой худой, – говорит Герман. – Он таскает меня один, а другие не могут.
Это сказано было с гордостью.
– Давай, понесу я, – говорю я. Я хотел взять его за кукорки.
– Нет, нет, на руки.
И вот я беру Германа на руки как ребенка. И он как ребенок обхватывает меня за шею. И как ребенок боится, что его могут уронить.
Я с трудом дотащил до двери парилки.
– Ладно, давай уж! – презрительно махнул рукой Петро. Он взял Германа – худенький, тощий – спокойно и привычно впер в парилку, потом на полок.
Герман стал париться. Парился он самозабвенно, как парится русский.
– Федор, давай попарю тебя.
И он хлестал, растирал меня веником с любовью, с добрым сознанием того, что и он приносит мне пользу.
В парилке было жарко, и мы с Петькой вышли в предбанник. Сели, стали говорить. Потом я спохватился: Германа-то мы забыли.
– Ничего, – равнодушно сказал Петр. – Здоровый черт, сам выйдет.
Меня это равнодушие поразило. Но оказывается, за этим равнодушием скрывалась настоящая, требовательная любовь; пусть сам привыкает.
Все же, когда я встал и пошел в мыльную, Петька тоже встал. Вдруг я вижу: в тумане к нам навстречу бредет Герман. На тазиках. Широкое лицо его сияет. Он доволен и тем, что попарился, и тем, что передвигается сам. Я бросился ему на помощь. Петька не пошевелился.
– Брось, – сказал он. – Пусть сам.
Когда разместились на лавках, я с восхищением сказал:
– Ты, Герман, просто герой. Настоящий герой! Тебя надо на руках носить.
– Брось! – монотонно сказал Петька. – Его бить надо. Черт поганый, ничего не делает. Где диссертация? Вот погоди, на партбюро будешь отчитываться, мы намнем тебе бока.
Мне показались слова Петра обидными, черствыми. Я вступился за Германа.
– Нечего, нечего его расхваливать. Не заслуживает.
А как реагировал на замечания Петьки Герман? Он не возражал. Он давно уже привык относиться к этому худенькому пареньку – моложе его на 8 лет – с уважением и любовью. Да и как можно было иначе. С Петькой они дружат больше 10 лет. Вот уже 10 лет Петька таскает его в баню. Петька получил кандидатскую степень. А что же? Сейчас он отдает Герману все излишки денег, вернее, не излишки, а делится всем, что у него есть.
На днях захожу в партбюро. Петька уезжает в Москву в командировку. И надо было видеть, с какой трогательностью Герман заботится о нем.
– Вот тебе билет, – подал он железнодорожный билет Петьке. (Это Мариша купила по его просьбе.) – Вот тебе сумка и харчи. Деньги ты получил?
– Триста рублей.
– А ведь тебе не хватит.
– Хватит, – сказал Петька. – А ты мою зарплату получи, да рассчитайся со своими долгами. Сколько тебе говорить об этом?
– Ладно, рассчитаюсь, – виновато сказал Герман.
– Не ладно, а чтобы у меня было в точности! – строго сказал Петька. Да, Петька чудесный парень! Без рисовки, без позы!
Выйдя из бани, мы сидели перед шкафами, вытирались, пили пиво, блаженствовали. Я давно не испытывал такого удовольствия.