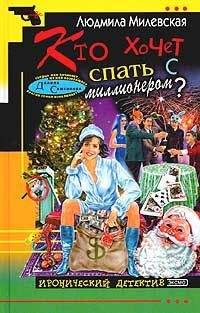Дмитрий Панов - Русские на снегу: судьба человека на фоне исторической метели
Имела эта бомбежка, которую я перележал в небольшой водосточной канаве неподалеку от казармы, меланхолически прислушиваясь к свисту осколков, и другие последствия. Пилот «Лаптежника», которого завалил Ветчинин, именно тот, который разбомбил артиллерийскую батарею румын, а потом положил свои бомбы в небольшой дом среди виноградников, в метрах двухстах от нашего командного пункта, видимо думая, что мы отдыхаем в этом домике на горке, попал к нам в плен. В домике, который он вдребезги разнес бомбами, как раз находилась вся семья виноградаря, венгра по национальности, пятеро детей вместе с матерью. Сам хозяин работал метрах в двухстах от дома и остался жив. Что ж, и народам всех запредельных стран пришлось посмотреть в лицо войне, хотя большинство людей, которые гибли, конечно же, не имели ничего общего с теми, кто эту войну затеял. Нам, летчикам, редко приходится видеть дело своих рук. Должен сказать, что немецкий пилот, захваченный в плен (его самолет, подбитый на пикировании, отлетел километра на три от нашего аэродрома, и пилот опустился на парашюте — наша пехота передала его летчикам) оказался высоким парнем в синем комбинезоне, подтянутым, с офицерской выправкой, белокурым, именно такой, каким мы привыкли представлять немцев. Автоматчики поставили его возле стены сарая и принялись с ним разговаривать. Пока командир полка звонил в штаб дивизии, выясняя, что делать с пленным, решил и я побеседовать с немецким пилотом при помощи Романа Слободянюка — «Иерусалимский казак» говорил и понимал по-немецки. Речь зашла о Гитлере. Немец, который отнюдь не тушевался, а вел себя совершенно свободно, выкинул в приветствии правую руку: «Хайль Гитлер». Потом он сразу стал интересоваться, скоро ли его расстреляют, и даже расстегнул комбинезон, указывая, где у него находится сердце, демонстрируя, что для настоящего нациста смерть — пустяки. Это был крепкий парень, который или так увлекся нацистской романтикой, что и вправду возомнил себя нибелунгом, неуязвимым для врагов, или находился в состоянии аффекта. Выяснилось, что немецкая авиация прилетела с аэродрома, находящегося на территории Югославии, в километрах шестидесяти отсюда. А раньше эта воинская часть базировалась на этом самом Лугожском аэродроме, где хорошо знала все цели.
Я показал пальцем немцу на разбитую румынскую батарею, убитые румыны лежали рядом на траве, и он гордо признался, что это его рук работа — для того и бросал бомбы. А вот ответственность за убийство пятерых «кинго» и «фрау» взять на себя отказался. По его словам, это была работа друга, который благополучно улетел. Перед заданием каждый получал цель, которые были прекрасно разведаны. Как раз в это время несчастный венгр разбирал остатки своего жилища, доставая из-под обломков трупы детей. Он выглядел, как человек, который никак не может проснуться среди дурного сна: временами останавливался, бессмысленно глядя вверх, не мог закрыть рот и чувствовалось, что плохо понимает, где он, и что происходит. В наши головы уже крепко затесалась идея, что только убийство очередного немца способно что-либо поправить в этой жизни. И мы попросили венгра посмотреть на летчика, которого объявили убийцей его детей. Виноградарь-венгр отказался взять пистолет, который я ему предлагал, исступленно смотрел на немца, плакал и дрожал, а потом повернулся и ушел к развалинам своего дома. Мы послали несколько солдат ему в помощь, а немца отправили в штаб дивизии под конвоем двух автоматчиков. Сделали мы это с облегчением и занялись своими делами, но видимо, суждено было немецкому пилоту именно здесь сложить голову за своего фюрера. Часа через три его привезли к нам обратно: ваш немец, вы и делайте с ним, что хотите.
Ну что мы могли с ним делать? Самым простым было предложение «Иерусалимского казака», который всякий раз впадал буквально в горячку, видя пленного немца и вспоминая своих родных, расстрелянных в Кировограде. Когда Роман Слободянюк рассказал немцу об этом, тот одобрительно закивал головой и спросил: «Иуда?». Выходило так, что решать судьбу немца выпадало мне. Жена Смолякова, нашего командира полка, была еврейка, и он склонялся к мнению Слободянюка, тем более, что родственников его жены, евреев из Бобруйска, немцы тоже расстреляли. Что же мне было делать? У меня самого из-за немцев погиб сын, а отпусти такого молодца, и он еще наломает дров. Не кормить же мне его из своего пайка? Тем более, что у «Иерусалимского казака» появились мощные союзники — несколько румын, которые объясняли мне, что, хотят рассчитаться с немцем, убившим их товарищей. Я, как Понтий Пилат, отвернулся и махнул рукой. И наши, и румыны окружили немца веселой гурьбой и, оживленно переговариваясь, повели к отдаленному оврагу у реки. Слободянюк на ходу вытащил пистолет и проверил его. Минут через пять в том направлении застучали выстрелы. А еще через час уже из штаба армии пришел приказ доставить на допрос пленного немца. Пришлось сообщить, что румыны за ним плохо присматривали, и он рванул в виноградник, где и скрылся. Очевидно, в штабе понимали, куда девался немец, но не наказывать же своих ребят из-за такой мелочи. Как рассказал мне сам «Иерусалимский казак», он всадил немцу пулю в лоб с третьего раза. Два раза перед этим заставляя его открывать глаза, которые немец все норовил закрыть, а Роман открывал ему их силой, напоминая, что его родные в Кировограде умирали с открытыми глазами. Такие были времена, такие были нравы.
Что касается нравов, то сразу отмечу, чисто внешне наше офицерство выглядело неважно: не было ни воспитания, ни материального обеспечения. В Лугоже я с несколькими офицерами решил остановиться на квартире в большом красивом особняке и постучался для этого в дверь. Вышла пышная румынка лет 35 с уверенными манерами. Не помню, по какому случаю, но на мне была летняя холщовая гимнастерка, с целым рядом медалей, полученных к этому времени, и четырьмя орденами: два Боевого Красного Знамени и два Великой Отечественной войны. Румынка посмотрела на награды, с одобрением сказала: «Декорация!». Она по-хозяйски прогнала моих спутников, велев им поселиться в соседних домах. Почему-то сразу подчинившись этой напористой даме, ребята поплелись искать другие квартиры. Выяснилось, что уверенный тон румынки имеет свои причины. Ее муж, майор румынской армии, служивший в местном гарнизоне, к вечеру явился домой. Офицер был прекрасно одет: красивая, великолепно отглаженная форма из тонкого сукна сидела по фигуре, сапоги из тонкой кожи. За ним почти неотступно следовал денщик. Румын был прекрасно выбрит и красиво подстрижен, слегка пахнул одеколоном. Оказавшись рядом с ним, я будто увидел себя со стороны: мешковатая, как у отряхи — мученика, белая полотняная, летняя гимнастерка, мешковатые галифе, кирзовые сапоги. Трудно было придумать форму уродливее, чем утвердили ее наши вожачки, никогда в жизни не бывавшие толком на фронте и не носившие солдатскую сбрую.
Вскоре нам выдали леи, и я не без удивления обнаружил, что торговля Лугожа работает на полный ход — румыны предпочитали воевать цивилизованно. В одном их магазинов я купил пачку цветных карандашей, а в другом темно-синей, тонкой шерсти, из которой сшил лихие галифе, которым сносу не было. Они бодро мотались на моих ногах еще года два после войны. Потом я купил килограмм прекрасных шоколадных конфет с начинкой из варенья. Поел их и почувствовал себя, как в детстве. В Румынии рыночные правила сочетались с законами военного коммунизма: продавец не имел права повышать цены выше установленной указом короля. Я хотел переплатить, чтобы мне достали дефицит, но перепуганный продавец-румын жестами показал, что за такие штучки можно угодить на виселицу.
Через несколько дней мы перелетели на полевой аэродром недалеко от Лугожа, в местность, по которой протекала небольшая мутная река, белая от плавающих в ней гусей. Сначала мы с удовольствием поедали эту водоплавающую птицу, которую в разных видах подавали в летной, технической и даже солдатской столовых. Мы платили за них полновесной леей сельскому старосте — солтису, сильному крепкому мужику в длинном плотном сиряке из шерсти, обутому в постолы — голову его украшала высокая баранья шапка, какие я привык видеть на Кубани.
Гусей здесь принимали не по-кубански, на глазок, а в строгом порядке: хозяйка приносила гуся, которого резали при ней, она общипывала его, забирала пух, перья, а также голову и лапы себе. Потом определяли чистый вес.
Тем временем эпицентр боевых событий на нашем участке фронта все больше смещался к югу, в сторону Венгрии. Именно там немцы, опираясь на нежелавшую переходить на нашу сторону венгерскую армию, решили создать южный бастион, которым прикрывались Чехословакия, часть Польши, Австрия и выходы в южную Германию. Здесь, в начале знаменитой Трансильванской долины, уже столетия служащей предметом спора между венграми и румынами, нам вскоре пришлось поддерживать атаки казаков Плиева, прорывающихся в Венгрию с севера. Именно туда уходили девятками штурмовики корпуса Каманина в сопровождении наших эскадрилий. Хорошо помню бой, виденный мною с воздуха, происходивший на границе Румынии с Венгрией. Венгерская конница, примерно до одной дивизии, укрылась в огромном кукурузном квадрате площадью до двух квадратных километров. Гонведов поддерживали танки и бронетранспортеры, зарытые в землю. Казаки Плиева нажимали на них с востока при помощи нескольких десятков танков и активной поддержке артиллерии.