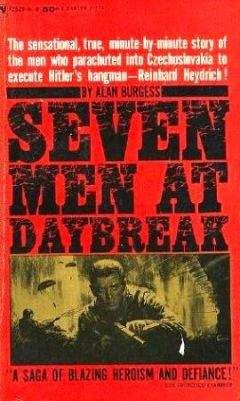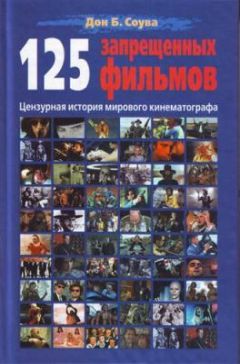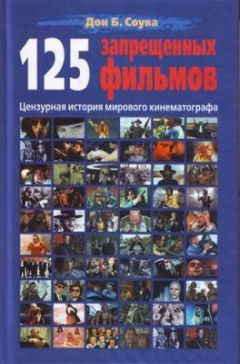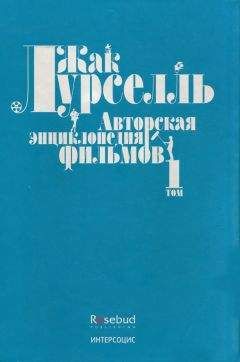Майкл Уолш - Сыграй ещё раз, Сэм
— Я подумаю, — вот и все, что он сказал.
Глава четырнадцатая
Сэм в тот вечер вернулся поздно. Он снова играл — его рояль стоял теперь в прокуренном ночном клубе в Сохо, расположенном в подвале на Грик-стрит, где посетителям предлагали разбавленные водой коктейли и шоу с полуголыми девицами, ни одна из которых, заключил Сэм, не выдержит более пристального рассмотрения при свете дня. Заведение называлось «Кабаре-клуб Мортона», и заправляла им парочка гангстеров-кокни, близнецы по имени Мелвин и Эрл Кэнфилд. У местного британского населения братья, как понял Сэм, вызывали оторопь, но сам он находил их разве что забавными. Как они важно разгуливают в облегающих черных пиджаках — в которых даже зажигалку не спрятать, куда уж там пистолет, — выкрикивая распоряжения и вообще изображая из себя крутых! Сама мысль о безоружном гангстере смехотворна; дома в Америке Сэму встречался только один вид безоружных гангстеров — мертвые.
Из черных, кроме него, в «Мортоне» была еще пара судомоев, и они Сэма тоже не особо заинтересовали. Оба из Вест-Индии, но совершенно не похожи на карибских интеллектуалов, с которыми Сэм сталкивался в Гарлеме, где уроженцы островов более-менее задавали тон в социальном смысле. Эти же двое, наоборот, были мягкие и застенчивые, говорили кротко, словно боялись, что британцы с минуты на минуту заметят, что они черные, и вышлют за океан. Вторично.
Из песен в «Мортоне» пользовалось спросом «Сияние», джазовая негритянская песенка Форда Дэбни,[70] которую Сэм не прочь исполнить где угодно, хоть с Жозефиной Бейкер[71] в Париже или соло в «Американском кафе Рика». Белые ребята думают, что глумятся над ним, но Сэм знает: на самом деле это он над ними глумится. Представить невозможно, чтобы цветные сидели кружком и слушали, как белый человек валяет дурака, да еще платили бы за это.
— Где тебя носило? — спросил Рик.
Он сидел один в гостиной, сам с собой играя в шахматы. По его виду трудно было понять, выигрывает он или проигрывает.
— Да особо нигде, мистер Рик, — ответил Сэм, снимая пальто и вешая его на крючок в передней. Входя, он кинул взгляд на доску: Рик играл одну из любимых партий Сэма — партию Пола Морфи,[72] в которой черные лихо жертвуют ферзя и ставят мат на семьдесят шестом ходу. Сэм с Риком сыграли ее всю только вчера. Зачем Морфи на шестнадцатом ходу сыграл пешкой на а5, Сэму вполне очевидно, но Рик, похоже, так и не понял. Сэм подумал было, что надо дать боссу почитать «L'analyse du jeu des Echecs» Филидора,[73] но вспомнил, что Рик плохо читает по-французски. — Просто парочка полисменов захотели узнать, зачем цветному парню вздумалось разгуливать по улицам Лондона за полночь и знаю ли я, что идет война.
— И что ты им сказал? — спросил Рик.
— Что это не моя война.
— Может быть, уже твоя. — Рик, сдавшись, повалил белого короля. — Ладно, пошли вниз. Устал я сидеть тут, пить и сам себя громить в шахматы. Хочется музыки послушать. Может, даже старье какое-нибудь.
— Заметано, босс, — сказал Сэм.
Они спустились в фойе отеля. Там почти ни души, свет не горел, но Сэм управлялся с роялем и при свече. Рикову бурбону свет и вовсе незачем: бурбон и в темноте хорошо пьется.
— Хотите поговорить, босс? — спросил Сэм; его пальцы легко порхали над клавишами. Он играл «Наверное, ты была прелестный ребенок»,[74] одну из любимых песен Рика. Босс всегда расслаблялся, когда Сэм играл.
— О чем? — спросил Рик.
— Вы поняли, — сказал Сэм. — О ней. О мисс Ильзе.
Рика выдала партия Морфи: в бодром настроении он обычно переигрывал партии Капабланки.
— Я, кажется, не велел тебе о ней заговаривать, — огрызнулся Рик. — Насколько я знаю, этот приказ никто не отменял.
— Как скажете, мистер Ричард, — сказал Сэм. — Я просто думал…
— Кто тебя просил думать? — сказал Рик.
Несколько минут он курил и пил в молчании. Сэм продолжал импровизировать. Машинально позволил пальцам скользнуть в «Пусть время проходит».
— Прекрати, — воспротивился Рик, но Сэм поспешно его перебил:
— Помните, где мы первый раз услышали эту песню, мистер Рик? Еще в «Тутси-вутси», году, наверное, в тридцать первом или тридцать втором.
— Да, где-то так, — проворчал Рик. — Я примерно тогда стал управляющим.
— Точно. — Сэм покачал головой, припоминая. — Вот было время. — Он перешел к пианиссимо и обернулся к Рику. — Помню как будто вчера, — сказал он. — Этот белый паренек, мистер Герман, ворвался в парадную дверь и сказал, что у него внутри сидит песня и ей нужно вырваться на волю, и мистер Соломон сказал — проваливай вместе со своей драной песней, это цветной клуб и нам тут евреев не надо, но вы сказали — я теперь управляющий, и потом велели мистеру Герману сыграть, и он сыграл. — Сэм отпил воды из стакана, пропустив лишь пару тактов в левой руке. — С тех пор я ее играю всегда.
— Это уж точно, — согласился Рик.
— А сказать по правде, для меня она ничего особенного. Но у вас всегда была из любимых.
— И у нее, — сказал Рик. — Так что прекрати.
— Я слышу вас, мистер Рик, — сказал Сэм, продолжая играть. — Но я вас не слушаюсь.
— Ты уволен.
— Я в это поверю, когда вы мне дадите эту чертову прибавку, которую обещали.
— Он тебя никогда не уволит, Сэм, — сказала Ильза. — Ты так волшебно играешь «Пусть время проходит», что у него рука не поднимется.
И вновь она вышла к нему из темноты — ангел в белом, как тогда, в его кафе в Марокко. Тогда Рик думал, что знает, зачем она пришла, и ошибался.
Но сегодня все по-другому. Сегодня он знает.
— Когда ты едешь? — спросил Рик.
— Завтра.
— Шампанского?
Шампанское они пили в «Ла бель орор» перед расставанием. Сейчас было бы кстати.
— Шампанского было бы здорово, — сказала Ильза.
— Сэм, будь добр, добудь шипучки для дамы, — попросил Рик. — Только смотри, холодной. Мне плевать, кого и как тебе придется подмазать, чтобы ее достать, главное, достань.
— Сделаем, босс, — сказал Сэм, поднимаясь.
Пока Сэм ходил за шампанским, Ильза собиралась с духом.
— Виктор рассказал мне о соглашении, которое вы с ним заключили в Касабланке, когда капитан Рено запер его в камере. Что ты сделал вид, будто мы полетим на том самолете, а сам все время планировал, как я улечу с ним. Хочу, чтобы ты знал, — я тебе благодарна.
— А я вот думаю, правильно ли поступил, — сказал Рик.
— Теперь не думай, — сказала Ильза. — Важно лишь то, что мы здесь, вместе. Важно не то, что сделано. Важно, что мы сделаем — вместе.
— Говоришь так, будто все уже просчитала, — отметил Рик. — Так зачем тебе я?
— Не мне, — ответила она. — Виктору.
Рик залпом допил бурбон.
— У меня бывали предложения поинтереснее, — сказал Рик.
Зря он это сказал.
— Ричард, не глупи! Не будь таким корыстным! Разве ты не понимаешь, что это больше нас с тобой, больше Виктора, больше, чем мы все? Речь не о бедах троих маленьких людей. Если ты не можешь это понять — если ты не хочешь это понять, — значит, ты и вполовину не тот человек, каким я тебя считала. И вполовину не тот человек, в которого я влюбилась в Париже. — Она расплакалась. — И вполовину не тот человек, которого я люблю, — закончила она, и ее голос замер.
Рик одной рукой обнял Ильзу, и она склонилась к нему, примостившись головой на его плече.
Он поцеловал ее, крепко. Она не отстранилась — ни на миг.
— Ричард, как ты не понимаешь? — всхлипнула она, когда их губы разъединились. — Он погибнет. Я точно знаю. Он одержим. Думает только об этом. То, что немцы сделали с его родиной — и что сделали с ним, — он не может с этим смириться. Он жизнь кладет на то, чтобы выгнать их из Праги, из Чехословакии, из Центральной Европы, если сможет. Год в Маутхаузене не ослабил его решимости — наоборот. Что бы ни случилось, Виктор не отступит. Даже если ему придется умереть.
Ильза промокнула глаза платком из Рикова нагрудного кармана.
— Потому я и прошу твоей помощи, — сказала она. — Не для него, а для себя. Для нас. Понимаешь теперь?
С неохотой она отстранилась, заглянула ему в лицо.
— Англичане забросят меня в Прагу. Подполье может ввести меня в управление РСХА и, если повезет, в кабинет Гейдриха. Там есть вакансия секретаря, и с моим знанием языков я легко сойду за русскую белоэмигрантку.
— Вот, значит, какая легенда, — сказал Рик. — А я все думал, кем тебя сделают.
— Да, — сказала Ильза. — Я буду Тамара Туманова, дочь русского дворянина, расстрелянного большевиками после Октябрьской революции. Меня вырастила мать, возила по всей Европе, мы жили в Стокгольме, Париже, Мюнхене и Риме. Я всюду дома и не дома нигде.
— Ты уверена, что они купятся? — спросил Рик.