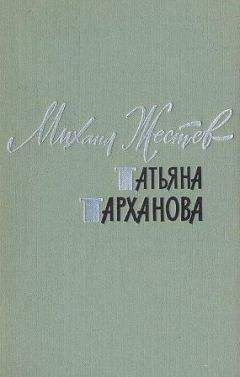Михаил Стельмах - Большая родня
Алексей и Соломия выходят в плавни и ложатся на сырую землю, охраняя подрывников.
На мосту бухают шаги часовых. Возле быков сильнее плещется вода. Снова падает звезда, и в зеленоватом отблеске вырезается напряженное лицо Пантелея; партизан как раз приделал тонкие веревочки к бревну, которое должно ударить по взрывателе.
— Готово, Нина, — весело и взволнованно шепчет Пантелей. — Бери вожжи в руки и правь свое счастье на погибель фашисту.
Девушка берет две бечевки, приделанные к обшивкам, пропускает вперед себя Пантелея и, правя, пускает лодку по течению. Студеная вода уже льется через голенища, но девушка теперь не чувствует ни холода, ни дрожи. Решительность, напряжение и даже какая-либо боязнь руководят ею. Больше всего боится, что не получится у нее направить смертоносный груз к предпоследнему быку.
— Хватит. Не иди! Разматывай бечевки.
Останавливается возле парня, и лодка одиноким пятнышком плывет к мосту. Повернула вправо. Наконец, уже не видя лодки, слышит нервный перестук в руках. Так стучит ночью перемет, когда в нем бьется уставшая рыба.
— Остановился! — тихо шепчет Пантелею.
— Приседай и открывай рот, чтобы не так оглушило, — как гром, раздается шепот.
Приседать надо прямо в студеную воду, и она заколебалась, пристально вглядываясь в даль. Еще раз туго колыхнулась невидимая лодка, натянулись бечевки. Сильно отклонился назад Пантелей. И пламя с черными пятнами посредине выбросило к самому небу красные языки. В страшном взрыве задрожала земля, загромыхал длинный обвал, заскрежетало железо, и сизый столб, расширяясь, поднимался и застилал долину. Волна резко ударила в берега, отозвалась воплями темень, а потом слева застрочили пулеметы. Зачмокала вода, затрещал очерет, и Пантелей сердито зашипел на девушку.
— Лежи и не поднимай головы! Слышишь меня?!
Подплывая водой, прижалась к траве. Теперь холод охватывает все тело, пробегает от ног до головы. Застывают руки, туго натягивается кожа на лбу.
Несколько подрезанных стеблей падают возле нее, и пули с протяжкой шелестят и попискивают в болотистых берегах. Вдоль реки, перекликаясь и стреляя, идет невидимая им стража. Эхо усиливает их голоса, а во тьме, где-то за мостом, не стихают крики.
Уже с востока перешли на запад Стожары, высоко поднялись Косари, до самой земли спустилось чумацкое дышло Большой медведицы, а стрельба не утихала.
— Если додержат нас до утра — пропали, — щелкая зубами, промолвил Пантелей.
Она ничего не ответила, потому что уже не шевелились холодные, бесчувственные губы, а внутри начал гореть огонь.
«Хоть бы не заболеть». Равнодушным стало отношение к выстрелам, они казались не такими страшными, как эта студеная купель, от которой набухло и закаменело все тело, кололо в ушах и мозгу.
— Пойдем, Пантелей, — промолвила хрипло, не узнавая своего голоса.
— Куда? Я по смерть еще не собираюсь идти. Не нажился. А ты не разбрасывайся дрожаками[148], а то и меня заморозишь. Привыкай, девушка, к подрывному хлебу…
На рассвете притихли берега и воды. Как тяжело разминается закоченевшее колючее тело. Кажется, переломятся негибкие ноги, но цепкое упрямство побеждает все боли. Они выползают на сушу и уже на рассвете идут в лес. Выкручивая рубашку, Пантелей взглянул на Нину и не узнал ее лица: оно пылало огнем, изредка неожиданно быстро белело и снова наливалось румянцем.
— Эге, как тебя разобрало! Разотрись хорошо, — вынул из кармана плоскую флягу со спиртом, а сам пошел в лесную чащобу.
Поздно вечером на запасной лодке перебрались на другой берег. Еле шла. Вся горела, а земля перед нею качалась и расходилась кругами. В голове еще и до сих пор гремел тот ночной взрыв. Туманилось в глазах и, как сквозь сон, услышала знакомый взволнованный голос:
— Пантелей, Нина, это вы?
— Да вроде мы…
И еще голос:
— Пришли! Нина, что с тобой? — наклоняется над ней Созинов.
— Ничего, Михаил, — впервые называет его по имени, и все, все куда-то отдаляется от нее.
Просыпается от яркого солнечного сияния, радостно прищуривается, неожиданно встречает взгляд Михаила и краснеет. Она хорошо знает: что-то уже случилось, но что — не припоминает.
— Как тебе? Лучше стало?
И странно, даже смешно видеть перед собой обеспокоенное, взволнованное лицо.
— Все хорошо, — встает девушка.
Каким-то непривычно плотным, твердым стало ее тело, и в голове заметалась боль. Но это лишь на минуту.
— Нина, ты не знаешь, как я переболел по тебе. Если бы ты знала… — берет ее за руку.
И она теперь припоминает: назвала его вслух по имени и радостный стыд заливает ее бледное лицо. Кажется, так бы всю жизнь слушала его прерывистую, медленную речь, всю жизнь не отводила бы взор от черных блестящих глаз. Они не заметили, как дошли аж до лесного озера.
— Нина, люблю тебя…
И она, забывая все тяготы и боль последнего времени, чисто посмотрела на своего любимого, прислонилась и сразу же испуганно отклонилась от него: возле дубов загомонили голоса.
— Алексей, что тебе для полного счастья надо?
— На сегодняшний день или после войны? — широко звучит упорный голос Слюсаря.
— Возьмем хотя бы сегодняшний день.
— Тогда костюм водолаза осчастливит меня.
— Костюм водолаза? — разочарованно тянет сбитый с толку партизан. — Зачем он тебе?
— Мосты над реками взрывать.
— Эх, если бы я был доброй феей…
— Тогда б я в юбке ходил, — заканчивает Слюсарь. И размашистый молодой смех катится по лесу.
XL
Теперь не узнать Сафрона Варчука: постарел, кожа на щеках обвисла двумя помятыми мешками, согнулся; походка стала шаткой, а черные глаза начали подплывать мутной водой. Еще осенью грозился людям, стоя на помосте:
— Мы отступаем только к Днепру. Ни одна большевистская нога не ступит на правый берег.
И вот уже Красная Армия мощно постучала в ворота Подолья. Сафрон еще властно кричал на людей, которые кое-где жили в сырых холодных норах, но то была внешняя видимость власти. Злой и опустошенный, приходил домой, бросал шапку в угол и сразу же нападал на жену:
— Какого черта к свету тянешься? Хочешь, чтобы какая-нибудь зараза в окно стрельнула? Ты с каждым днем глупеешь, как пенек трухлявый. — Молча ужинал и потом, кряхтя, забирался на печь — все-таки безопаснее.
В удивительно опустевшей голове теперь крепко гнездился цепкий страх и перед настоящим, и перед будущим.
В туманную предвесеннюю ночь кто-то постучал в окно, и Сафрон задрожал с головы до пят. Холодея, забился в угол, и только тогда начала униматься дрожь, когда пальцы охладила сталь парабеллума. Хотел стрельнуть в переплет рамы, но тотчас услышал знакомый голос:
— Мама, отворите.
В дом, тяжело дыша, ввалился Карп и сразу же устало осел на скамейку.
Когда Аграфена засветила лампу, Карп, как сова, прищурил глаза и отвернулся от света.
— Не ждали гостя? — промолвил хриплым голосом, облизывая с губ едкий пот.
— Здоров, здоров, сынок, — не обуваясь, Сафрон подошел к Карпу, охватил руками его шершавую и потную шею, всхлипнул. — Откуда же ты?
— Из лесов, — скривился и махнул рукой.
— Что, здесь гуляешь со своими?
— Нагулялся. Едва от смерти убежал. Разбили нас.
— Красные? — уцепился в обмякшее тело испуг, и глаза стали совсем круглыми, когда мелькнула мысль, что красные войска прорвались в тыл.
— Нет, партизаны.
— А, партизаны, — стало немного легче.
— И самое главное, — продолжал Карп, — разгромили нас Григорий Шевчик и Дмитрий Горицвет. За мной гнались до самой Дубины.
— Дмитрий Горицвет? Это плохо. Чтобы сюда не заскочил.
— Боитесь?
— Боюсь.
В выцветших глазах Карпа мелькнуло что-то, похожее на улыбку.
— Убегать вам надо, отец.
— Куда?
— Конечно, не к красным. А к тем, кому душу продали.
— А может еще поправятся дела? — с тревогой и скрытой надеждой посмотрел на Карпа.
— Навряд ли. За гнилую бечевку ухватились мы, — и, понижая голос, словно его кто мог услышать, прибавил: — Мне немного золота приготовьте. Только не скупитесь, как вы умеете, так как больше уже, наверняка, не придется просить у вас.
— Куда же ты думаешь?
— Снова в банду. Мне одна дорога лежит… Если же будет дело швах, зашьюсь где-то в темный уголок. На всякий случай уже и документы заготовил.
— Какие?
— Всякие. А вам удирать надо. Иначе, отец, на веревку поднимут или расстреляют.
— Спасибо, утешил под старость.
— Ешьте на здоровье. Не я же вас учил, как надо жить на свете, а вы учили меня. Да что говорить об этом — не поможет.
Злые сами на себя, на свою землю, на весь свет, молча сели за стол. Тяжело и долго ели, пили, будто хотели насытиться и напиться на всю жизнь.