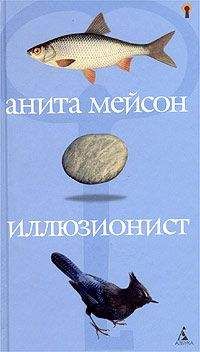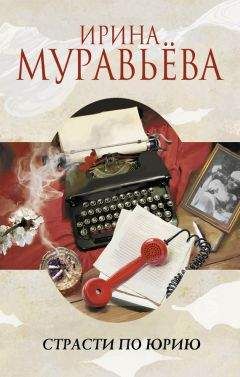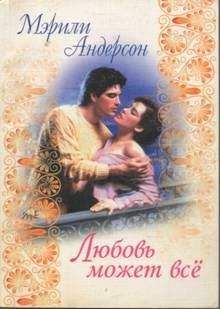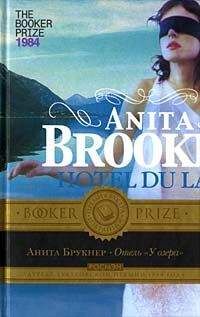Анита Мейсон - Ангел Рейха
– Ну вот, Уби, – сказала я.
Долгое колебание. Я затаила дыхание, пытаясь представить, что он сейчас чувствует. Я ждала одного мощного взмаха крыльев, который поднимет птицу ввысь.
Вместо этого гриф пошевелил ногами.
Он поднял лапу, вцепился когтями в перекрещенные прутья решетки и выбрался на верх клетки. Потом он спрыгнул на траву.
Мы стояли и смотрели, как он осторожно ступает по поросшей маргаритками лужайке.
– Будь я проклят, – сказал директор.
Мы оставили клетку открытой. Возможно, Уби захочет вернуться к ведру с пищей. Когда на подходе к обсаженной кустами аллее мы обернулись, гриф все еще неуверенно шагал по лужайке.
Через несколько дней стало ясно, что Уби разучился летать. Или просто больше не хотел.
Мы предпринимали попытки заставить грифа взлететь. Он пробегал небольшое расстояние, сердито хлопая крыльями, но оставался на земле.
Мы вызвали ветеринара. Он с отвращением рассмотрел Уби, сказал что-то насчет сухожилий и удалился со своим гонораром.
Скоро все привыкли к виду грифа, разгуливающего по территории института. Он важно вышагивал по усыпанной гравием подъездной дороге, указывая путь автомобилям, расхаживал по лужайкам и обсаженным кустами аллеям, и один раз я увидела, как он стоит в коридоре, ведущем к кабинету директора, чуть разведя крылья в стороны, похожий на полуоткрытый зонтик.
У сотрудников института Уби вызывал самые разные чувства. В мастерских его осыпали бранью и шугали, швыряясь гаечными ключами и прочими предметами, но при этом также кормили пирожными. Казалось, рабочие считали грифа чем-то вроде умственно отсталого ребенка.
Кухонные работницы ненавидели Уби. Он часто наведывался к мусорным бачкам у задней двери кухни. Обычно он пытался опрокинуть бачки и, если умудрялся перевернуть один из них, раскидывал лапами помои во все стороны, а потом вставал над ними на широко расставленных ногах и принимался клевать. Когда такое повторилось несколько раз, крышки мусорных бачков стали закреплять цепями. Встретив противодействие, Уби взял обыкновение запрыгивать на бачки и с этой командной позиции пристально смотреть в окно кухни, каковое обстоятельство настолько нервировало одну из поварих, что в конце концов она подала заявление об уходе. Либо я, либо гриф, сказала она.
К тому времени уже многие считали, что от грифа следует избавиться, но директор, которому все это говорилось, ничего не предпринимал. Он был непредсказуемым человеком со странным чувством юмора. Ходили слухи, что он считает грифа государственной собственностью, распоряжаться которой имеет право только государство. Ходили слухи, что он питает слабость к Уби и кормит его добычей из кухонных мышеловок.
Все оставалось по-прежнему. Уби продолжал разгуливать по территории института. Повариха уволилась, и на ее место пришла другая, которая не так хорошо пекла яблочный штрудель, зато лучше готовила суп.
Однажды я пришла к Дитеру домой, чтобы послушать пластинки. Он хотел поставить мне несколько пластинок Брукнера, недавно купленных.
Музыка многое значила для Дитера. Для меня она тоже многое значила – но я никогда не любила музыку так, как любил ее Дитер. Мальчиком он продавал газеты и подносил чемоданы туристам, чтобы заработать на билет на концерт.
– А у тебя в семье кто-нибудь на чем-нибудь играл? – однажды спросила я. Я подумала об уроках игры на скрипке, которые брал Петер; о своих уроках игры на фортепиано; об отце, играющем на виолончели летними вечерами.
Дитер снял пластинку с проигрывателя и сказал:
– Мой отец потерял на войне правую руку и правый глаз. Он не мог работать, даже когда имелись рабочие места. Моя мать ломалась на двух работах и растила нас – всех шестерых детей – в трехкомнатной квартирке в Крейцберге, стены которой потемнели от плесени. И знаешь, что она делала каждое воскресенье? Ходила в церковь и благодарила Бога за счастливые дары, ниспосланные ей. Счастливые дары! – горько повторил Дитер. – Церковные гимны – вот вся музыка, которую мы слышали.
– Извини, – сказала я.
– Да нет, все в порядке. Ты не жила в таких условиях, поэтому тебе трудно понять.
– Ты ненавидишь церковь, да? – спросила я.
– Да. Что она делает для бедных, помимо того, что забирает у них с трудом заработанные гроши и обещает лучшую жизнь на небесах?
Он поднял пластинку к свету, проверяя, нет ли на ней царапин.
– Ты когда-нибудь говорил это своей матери?
– Нет, она бы расстроилась.
Он отложил Брукнера и провел пальцами по полке с пластинками.
– Брамс?
– Не сегодня.
– Бах?
Он поставил Бранденбургский концерт, поскольку знал, что это одна из самых моих любимых вещей. Я сидела, откинувшись на диванные подушки, и слушала. Сложная, восхитительная музыка.
Я задалась вопросом, в какой именно момент Дитер, выросший в трущобах Берлина, вдруг стал убежденным националистом. В его случае решение вступить в коммунистическую партию казалось бы более логичным. Я спросила Дитера об этом.
– Я всегда ненавидел коммунизм, – сказал он. – На мой взгляд, он достоин лишь презрения. Как будто значение имеют только деньги, еда, материальные блага.
– Материальные блага облегчили бы тебе жизнь.
– Я не хочу облегчать себе жизнь, – сказал Дитер. – Я хочу трудностей.
Я с любопытством взглянула на него.
– Я жил такой пустой жизнью, – сказал он. – Такой бессмысленной. Я мечтал о какой-нибудь идее, которая потребовала бы от меня служения. Беззаветного служения. Жертвенного.
– Понимаю, – сказала я.
– Такой идеей могла быть только Германия.
Последовала пауза.
– Конечно, дело в том, что до Гитлера Германии как таковой практически не было, – сказал Дитер. – Помнишь те ужасные годы? Политики грызлись между собой, половина страны сидела без работы, а Германия была посмешищем для всего мира… Я все время искал чего-нибудь надежного, реального, неизменного. Некоего основополагающего принципа, которым можно руководствоваться и вдохновляться, который не является фикцией.
На двери у него висел плакат. Один из тех, где Гитлер изображался с бесстрашно устремленным вдаль взглядом. Они были расклеены по всему Берлину.
– Мир еще не знал людей, подобных Гитлеру, – сказал Дитер. – Обладающих такой силой духа. Он ничего не боится. Он последователен в своем служении идее. Были ли еще такие люди? Вся история человечества – история бесконечных компромиссов.
Одна сторона пластинки закончилась. Дитер встал, чтобы перевернуть ее. Он осторожно опустил иголку на самый край пластинки и смотрел, как она начинает медленно двигаться к центру.
– Демократия! – сказал он со спокойным презрением. – Что ж, он спас нас от этого. Другие страны последуют нашему примеру. У демократии нет будущего. Люди не равны. Некоторые люди неспособны принимать политические решения.
– А кто решает, кто неспособен?
– Те, кто способен, – ответил Дитер. – Да, ты смеешься, но все действительно так просто. Если те, кто способен, не принимают решения, если они не берут власть в свои руки, происходит крах. Это закон природы.
Оно часто повторялось в речах Дитера, выражение «закон природы».
Он опустился в кресло напротив и улыбнулся мне.
– Ты держишься другого о мнения о Гитлере, да?
Да, я держалась другого мнения. Я считала низкопоклонство перед ним нелепым, а человека, запечатленного в кадрах кинохроники, довольно невзрачным на вид. Но когда он говорил, я чувствовала в речах такую силу убеждения, почти магическую, что понимала, почему люди подпадают под его влияние. Я старалась по возможности не слушать выступления Гитлера.
– Да, я держусь другого мнения, – ответила я на вопрос Дитера.
– Ладно, не беда, – сказал Дитер. – Всему свое время. Разумеется, ты никогда его не видела. Во плоти. Видела?
Я помотала головой.
– Это перевернуло мою жизнь. Когда я увидел Гитлера – в день его первого выступления в Берлине, – я сразу понял, что он вправе распоряжаться моей жизнью, – сказал Дитер. – Я сразу понял, что готов на все. Партия тогда только-только открыла свою штаб-квартиру в Берлине. Я пошел туда на следующее же утро. Я… – У Дитера прервался голос, но он справился с волнением. – Я сказал: «Пожалуйста, примите меня».
Я слушала прозрачную музыку Баха.
– А основополагающий принцип, реальный и неизменный, – ты нашел его? – спросила я.
– Да, – ответил он. – Он настолько прочен, что на нем можно построить новый мир. Он истинен. Да, я нашел его.
– И что за принцип?
– Расовое превосходство, – сказал Дитер.
Дела у меня складывались хорошо. Я проработала в институте четыре месяца, когда освободилось место летчика-испытателя в конструкторском отделе.
Я подала заявление о приеме на вакантную должность. По институту пробежал удивленный гул.
Со мной провели собеседование директор, замдиректора и старший летчик-испытатель. Меня спросили, понимаю ли я, насколько опасны испытательные полеты по своей сути. Я ответила, что, чем лучше пилот, тем меньше опасность. Да, сказали они, но на каком основании я считаю себя пригодной к подобной работе?