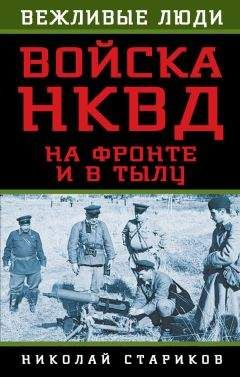Нгуен Нгок - Страна поднимается
Нуп лежал на спине, глядел широко раскрытыми глазами в небо и думал, думал. Да, теперь он понял, почему и Кэм, и солдаты Зупга, и Тхе — люди из племени кинь, чей дом был далеко, на равнине, поднялись по непролазным кручам сюда, в горы. А ведь, чтобы добраться сюда, они, не испугавшись крокодилов, переправились еще через широкую реку Ба. Он понял, отчего, оставаясь по месяцу, по два в диком лесу, не уставали они, не теряли бодрости духа и относились по-братски к здешним горцам. Верно, всему этому научила их Партия. Он размышлял о собственной своей тяжкой судьбе, о горькой доле матери, Лиеу, всех людей Конгхоа, и видел: лишениям и бедствиям нет числа, как звездам на небе. Теперь Партия протянула руку всем угнетенным и страждущим, и Нуп хотел — и в большом и в малом — идти за Партией.
— Тхе, — сказал он, — а я-то… Я считал себя человеком Партии… Теперь вижу: мало, мало я сделал. Скажи, могут взять меня в Партию?
Тот поглядел на Нупа:
— Почему же… Надо только постараться.
— Да уж я сил не пожалею…
Пуп так и не уснул всю ночь. На небе повсюду звезды и звезды. Долго ворочался он, потом снова спросил:
— Слушай, Тхе, тебе ведь тоже тяжело, правда?
Близился рассвет, а Тхе все рассказывал Нупу о своей жизни: с малолетства прислуживал он в доме у богатея, тот бил его, морил голодом. Потом Тхе вырос и, разгневанный несправедливостью, пошел за Партией, стал делать Революцию. Недосуг ему было жениться, детей завести…
Встав поутру, Нуп, прежде чем уйти восвояси, пожал руку Тхе и сказал:
— Дорога к нам стала теперь полегче. Завтра я отведу тебя в гости к моим землякам в Конгхоа.
Тхе засмеялся:
— Что, не стало ни круч, ни зверей, ни пиявок?
— Нет, они на месте, — покачав головой, засмеялся в ответ Нуп. — Но я теперь понял: ты — человек Партии, и самая трудная дорога тебе нипочем. Я хочу стать таким, как ты!
Тхе крепко пожал ему руку. За все годы своего служения Революции он никогда еще не был так счастлив.
II
Вот уж который день не унимается старый Шринг. За околицей вроде ничего и не заметишь, а вернется в деревню, обойдет ее вдоль и поперек и, чуть завидит какое сборище, пролезет в толпу, растолкает всех, замашет руками, точно вот-вот пустится в пляс, и давай хохоча приговаривать одни и те же слова:
— Что, видали: дядюшка-то Хо и люди из племени кинь прислали нам всем по паре рук!
Люди, как услышат его, смеются. А он, притворись, будто усмотрел тут возражение и очень разгневан, пучит глаза и вопрошает:
— Чего, не прислали, говорите, всем нам в Конгхоа по паре рук? Так я вам вот что скажу: кто, как не вы, когда не стало топоров с тесаками, сетовали: «Ах, ну прямо как руки обрубили!..» А теперь вон дядюшка Хо прислал через брата Тхе четыре тесака да пять топоров. Какой ни возьми — новехонькие, сияют, что твой господин месяц… Ну, сколько же это рук выходит? С каждым тесаком да с топором за день, за ночь сколько рук управляется?.. Одну, говорите, прислали?.. Две?.. Ха-ха!.. Три, четыре, пять, шесть, семь… Сто рук — вот мое слово!.. Ха-ха-ха.
Хохот его сливается с многоголосым смехом соседей.
Так-то оно так, но и без напоминаний старого Шринга любой из жителей Конгхоа никогда но позабудет тот день, когда Тхе принес топоры с тесаками и сказал: это подарок дядюшки Хо. Потом Тхе поручил Нупу раздать тесаки и топоры по артелям. Когда солнце позолотило верхушку крыши общинного дома, деревенский люд собрался во дворе. Нуп стал на высившийся посередине камень и оглядел всех. Девяносто знакомых, дорогих лиц соплеменников бана устремились к нему. Глаза блестели в ожидании его слов. И он, само собою, смутился, не зная, с чего начать. Снопа обвел взглядом своих земляков: за четыре без малого года горькие туманы горы Тьылэй выдубили кожу на этих девяноста лицах. Скоро четыре года, как все девяносто человек ни одного дня не ели досыта, не солили вволю свою снедь. Плоть их усохла, сморщилась. Щеки ввалились. Лица стали костлявыми, угловатыми… Что сказать сородичам и соседям, всему деревенскому сходу? Нуп взял девять топоров и тесаков, поднял их повыше и медленно заговорил:
— Люди моей деревни, помните, когда мы, покинув дома в Бонгпра, ушли на гору Тьылэй, где нас ждали лишенья и беды, француз постарался заграбастать все наше железо? Он был уверен: без железа нам смерть. По нет, мы не умерли, дожили до нынешнего дня и вернулись сюда, в исконную нашу деревню. А сегодня брат Тхе принес нам тесаки с топорами. Это люди из племени кинь и дядюшка Хо прислали их нам в подарок. Мы сможем теперь лучше прежнего расчищать и возделывать ноля, будем есть досыта. И окаянный француз, верьте мне, земляки, помрет, сгинет раньше нас…
И тут распустились улыбки на девяноста лицах — улыбки женщин, похожие на белый цветок дерева кэпонг, беззубые ухмылки стариков, щербатые счастливые улыбки малышей, махавших Нупу руками. Тхе — он стоял позади всех — тоже улыбался и почему-то моргал чаще обычного…
Девяносто человек разбились на девять артелей, чтоб сообща вырубать лес, расчищать поля. И в каждой назначен был старший — артельщик. Девятеро артельщиков по очереди вышли из толпы и, подойдя к Нупу, получили кто топор, кто тесак. Последней из девяти вышла старшая женской артели — Лиеу. Сын ее уже подрос, и сама она вошла в годы, окрепла. Лазила на деревья — обрубить ветки, прежде чем повалить стволы на пашне, — проворно и быстро, как белка. Но осталась улыбчивой, немногословной, и работа спорилась у нее, как в девичьи годы. Может, поэтому женщины и избрали ее своею артельщицей.
Пуп протянул ей последний тесак. Они улыбнулись друг другу. Теперь уже улыбалась — широко и радостно — вся деревня. Утреннее солнце улыбалось на зеленой весенней листве. Засвиристел рожок Гипа. И молодежь затянула давно уж знакомую всем песню:
Ты просчитался, француз!..
* * *
Нгыт сидит на пороге дома. Солнце светит ему в лицо. Нгыту исполнилось уже двенадцать лет. С тех пор как в страшный голодный год Нуп принес его сюда, он так и живет в этом доме с матерью Нупа и Лиеу. Вместе с Лиеу ходит на пашню и, стараясь во всем походить на нее, рубит деревья. А Пуп, когда бы ни вернулся из леса, всегда приносит два клубня май — один Нгыту, другой Хэ Ру. Но вот в Конгхоа поднялся брат Тхе, и Нгыт стал повсюду ходить за ним хвостом. Он даже выучил несколько слов на языке киней: «ан кэм» — «есть», «уонг ныок» — «пить», «ди тьой» — «гулять», «хот люа» — «зернышко риса»…
Тхе ушел вниз, в уезд. И Нгыт сидит, высматривая его на тропинке. В руке он держит бечевку с узелками. Тхе, уходя в уезд, обещал: вернусь через пять дней. Каждый день Нгыт завязывал на своей бечевке по узелку. Сегодня, встав поутру, он пересчитал узелки, их оказалось ровно пять. И вот он сидит и ждет. А Тхе почему-то все нет. Нгыт сидит неподвижно, если кто спросит о чем, не отвечает ни слова. Лиеу ушла в поле, но он не пошел за нею; глаза его неотрывно смотрят туда, где бежит речка Датхоа.
Нет, не одни только Нгыт высматривал брата Тхе. Его ждала вся деревня. Лишь месяц назад поднялся он в Конгхоа, но стал здесь своим, близким человеком. И каждому любо было — в который уж раз — рассказать какую-нибудь историю о том, как Тхе любит здешний народ. Особым успехом пользовалась история про солонку. Случилось это в тот самый день, когда Тхе впервые пришел в деревню. Он открыл свою солонку из долбленого коленца бамбука и разделил всю соль — понемногу на каждый очаг. Остался в руках у него пустой бамбук. Дней пять спустя вернулся он откуда-то усталый вконец и сразу завалился спать. Мать Нупа присела рядом и любопытства ради начала оглядывать да ощупывать все добро Тхе: резиновые сандалии, шапку, одежду. Дошел черед и до солонки, открыла старуха ее, глядит — а там пепел да плоды лопанга. Отдал, выходит, брат Тхе всю свою соль ей, старой, и соседям, себе ни крупицы не приберег… Тхе, ему любое дело по плечу: рис ли сварить, прибраться в доме, корзину сплести для зерна, для овощей, корм ли задать свиньям, натаскать воды, чтоб полны были все до единой фляги из тыквы-горлянки. Покончит с делами в доме у Пупа, идет помогать соседям. Под вечер он обычно ходил к ручью. Ребятишки собьются вокруг него и бегают следом. Вот он и отмоет их каждого дочиста. А как стемнеет, рассказывал людям про житье-бытье на равнине у киней. Детвора и здесь не отстает: один на колени усядется да прижимается к груди, другой на спине виснет. Тхе знал их всех по именам. Усадит, бывало, рядом и давай их песням учить…
А Нгыг все сидел на пороге, напевая вполголоса песню, услышанную от Тхе. Вдруг глаза его заблестели, он вскочил, обронив бечевку с узелками. Смотрит на высокие тростники у околицы. Меж качающимися желтыми верхушками тростников углядел он черное пятнышко. Оно все росло и росло. Вот уже можно различить широкополую шляпу — цветом, ни дать ни взять, синий баклажан, а под нею широкий черный от загара лоб, приплюснутый нос; из-за шляпы торчит ствол винтовки с мушкой… Тут уж не обознаешься! Нгыт прыгает наземь с настила и кричит: