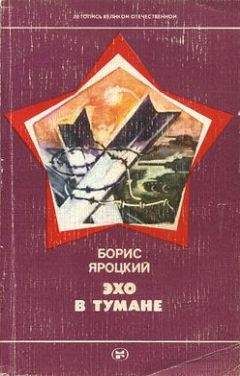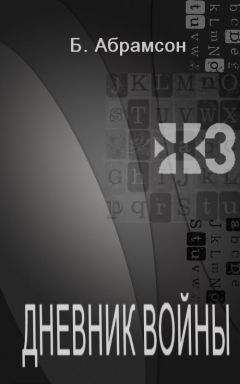Мкртич Саркисян - Сержант Каро
… Солнце заглянуло в окно, и я проснулся. Я открываю глаза и сразу же зажмуриваюсь: солнце слепит. Я хочу видеть его. Собственно, это и не мое желание, а желание моего тела, которое всей своей свинцовой тяжестью давит мне на глаза.
— Проснулись, да? — раздается знакомый женский голос.
— Наверно, — отвечаю.
— Как ваше самочувствие? — спрашивает женщина.
— Я вижу солнце.
— Слава богу, — говорит женщина.
И когда чья-то тень закрывает от меня солнце, я вижу светлое лицо Ольги Ивановны и тотчас же — славную физиономию сержанта Каро.
— Вы завидовали сержанту, — говорит докторша, — когда он был моим больным… Как видите, бог вас услышал, лейтенант.
— И слава богу, — проговариваю я со стоном.
— Земляк, дорогой мой человек, — наклоняется ко мне Каро, — три дня докторша боролась с твоей смертью. И вот победила!
— Спасибо, — силюсь улыбнуться. И, почувствовав вдруг ужасную усталость, снова в бессилии закрываю глаза. Солнце гаснет…
… Спустя несколько дней два санитара укладывают меня на носилки и выносят из санчасти. Среди провожающих — и сержант Каро. Лицо у него грустное, отрешенное. Осенняя травка вся в слюдяных завитушках и бусинах инея. Каро пытается заменить одного из санитаров, те не соглашаются, и он сердится, досадует.
На санитарном самолете — изображения звезды и креста. Крестов не люблю. Фашистская свастика — крест. Этот крест — на их машинах, на их оружии, на их могилах… Когда санитары подносят меня к трапу, Каро сжимает мне руку:
— Скорее выздоравливай, земляк… Счастливого пути, дорогой.
— Счастливо оставаться, — говорю я ему.
— До свидания. Значит, покидаешь меня… Эх, ты!
* * *1965 год. Девятое мая. В Ереване весна. Война — это уже история, память. Вспоминая войну, люди словно смотрят старый кинофильм, как бы подтверждающий факт их собственного участия в ней. Но война была. Война оставила глубокий след и горький осадок не только в душах ее участников. Среди нас немало матерей, потерявших детей-воинов, немало молодых, никогда не видевших своих отцов, так и не вернувшихся с поля брани, немало седеющих девушек, не познавших сладости любви и материнства. Все то, что было фронтовой повседневностью, с годами стало героизмом, книгами, песнями, изустными рассказами. Мертвые не оживают, но они могут воскресать.
… Мимо театрального института проходит пожилая пара. Иду вслед за ними и не вижу их лиц. Но какая-то необъяснимая сила, какой-то повелительный внутренний голос толкает меня, шепчет: прибавь шагу, нагони их. Нагоняю — и останавливаюсь. Останавливается и пара. С минуту вглядываемся друг в друга. Память будит спящее в глубине моей души далекое былое… Да, это он! Да, это они!..
— Каро? Мария? Вы?..
— Мы, конечно, дорогой наш лейтенант!
По круглым щекам Марии катятся слезы. Синие глаза подернуты дымкой печали, воспоминаний.
А Каро… Он как-то понежнел, похорошел. Седые волосы осветили, словно забелили, его землистое лицо.
— Значит, жив, лейтенант! Вот это хорошо!
— Я надолго застрял в госпитале. А когда демобилизовался, сразу поступил в институт…
— Ясно, — говорит Каро.
— Господи, как во сне… — все еще вглядывается в меня Мария.
Молча направляемся куда глаза глядят. Молча переглядываемся. Улыбаемся друг другу с немым удивлением. Сейчас я ничего не помню, только знаю, что нашел своих фронтовых товарищей, дорогих друзей моих далеких трудных дней…
Входим в ресторан. Поседела и Мария, но когда она улыбается, на щеках расцветают те же забавные ямочки ее давней девичьей поры.
— А вы, похоже, городскими стали, — после долгого молчания говорю я, наливая в бокалы вино.
— Вот уже пятнадцать лет, лейтенант. Городские мы теперь, — отвечает Каро таким тоном, будто они провинились передо мной.
— Чему угодно я бы поверил, но что ты оставишь деревню — никогда.
Каро молча двигает руками, словно ищет опору, и, отчаявшись найти ее, отвечает, путаясь в словах, с запинкой, как школьник, не выучивший урока.
— Ты прав, братец, изменил я деревне. Это измена с моей стороны. Но город хочет расти. Его строить надо. Верно? Теперь таким путем жизнь у нас идет. А я считаю, что куда идет жизнь, туда и ты шагай.
— Где работаешь, Каро, кем?
— Каменщиком. Стены кладу, старик. И это мое новое дело — тоже святое. Строю — не разрушаю. Большая это радость — строить для людей дола. И все же… очень уж люблю я землю, не по себе мне без нее.
Я утешаю Каро, говорю, что теперешнее его дело — продолжение его святого крестьянского труда и что никакой «измены» тут нет.
— Спасибо, старик, — успокаивается Каро, — но все-таки очень уж люблю… Не пойму, как это мы все, точно сговорившись, в город жить переехали. Меня и сейчас все туда тянет, в деревню.
— А как дети, как дом?
— Все в порядке… Дети — не нарадуемся, на них глядя. Сыновья, двойняшки наши, — оба архитекторы. А дочь — у меня ведь и дочь есть — кончает химический факультет. Квартирой своей тоже довольны. Трехкомнатная, А мебель… Какая у нас мебель, жена?
— Импортная, — с улыбкой откликается Мария.
— Да, импортная, — продолжает Каро. — Все у нас хорошо, но корни мои — в деревне, лейтенант, и мне вдали от нее скучно. Езжу я туда… Дверь заколочена, у порога крапива — по пояс мне. В тонире ни уголька, в доме ни души… По опыту знаю, что если дом жилой, то он долго не разрушается, а если нежилой — быстро. В доме, коли он заброшен, даже цемент, который силой не отобьешь от стены, и тот не хочет на месте держаться, отваливается… Изменил я деревне.
Каро умолкает. От вина нам делается еще грустнее. Завожу разговор о наших фронтовых днях.
— Были со мной случаи и после того, как тебя увезли, — нехотя говорит Каро. — Ну, делал я все то же, что и при тебе: фрицев крал. Обыкновенные почти все случаи. Но вот история про мое тяжелое ранение, пожалуй, интересная, даже необыкновенная история…
И Каро рассказывает…
Ранней весной 1945 года части наших войск в районе озера Балатон наталкиваются на небольшую, но сильно укрепленную высоту, занятую немцами. Много дней подряд целый полк штурмует эту преграду, но безуспешно. Между тем командование фронта требует — во что бы то ни стало овладеть высотой, чтобы части нашей армии продвинулись вперед и тем самым дали возможность частям фронта окружить и уничтожить венгерскую группировку противника.
И вот в этот трудный час командир разведывательной роты, теперь уже старший лейтенант Каро, является к командиру полка с предложением не только дерзким, но и фантастическим. Он просит разрешить его роте подойти на рассвете к высоте, атаковать ее в лоб и ворваться в глубь обороны немцев. «И в этот момент полк стремительным ударом возьмет высоту…»
«Мы все умрем, — сказал я подполковнику, — но высота будет наша». «Ты большой фантазер, товарищ старший лейтенант», — сказал он. «До сих пор все мои обещания исполнялись», — сказал я. «Но это не исполнится», — отрезал подполковник.
— Хороший он был человек, знакомый нам с тобой Бондаренко. Отказался он от моего предложения, но оно засело у него в голове.
В конце концов командование полка удовлетворило просьбу Каро. И вместе со своими ста пятьюдесятью бойцами он всю ночь ползком пробирался к высоте и под утро внезапно атаковал укрепления немцев. Завязался рукопашный бой. Вся рота погибла — исчезла как капля воды. Но полк взял высоту.
— У меня на глазах пали все мои хорошие ребята… Эх, лейтенант!..
Полк, как узнал Каро впоследствии, пошел в атаку без опоздания, но когда достиг высоты, никого из роты в живых уже не было. Каро же застали сидящим на земле… Автоматной очередью, как ножом, немцы вспороли ему живот.
— Потом?
Потом истекшего кровью и обеспамятевшего Каро увезли в прифронтовой госпиталь. Крепкое здоровье горца, твердая воля и умелость врачей спасли ему жизнь.
— Как заштопывают мешок, так хирурги заштопали мне брюхо…
Произошло чудо — Каро выжил.
Он вернулся в жизнь, когда пушки уже молчали.
— А как оценили этот твой подвиг?
Каро заливается смехом. Звонко, запрокидывая голову, смеется и его жена Мария.
… По представлению полка, решившего, что Каро умер, ему посмертно присвоили звание Героя. Вот и все. А мне нужно наполнить бокал вином и поздравить Каро.
— Ну, золотой мой, поздравляю. Он улыбается.
— Я не герой, знай, старик. Пока живу, я рядовой человек; как умру — только тогда героем стану. Я посмертно герой… Теперь, дорогой мой, в счет своей смерти живу. Я, может, единственный человек на свете, которому посчастливилось жить посмертной жизнью.
Жизнь под огнем
(Войне в дневнике солдата)
Вместо пролога