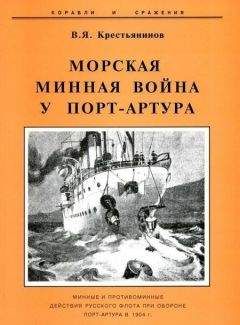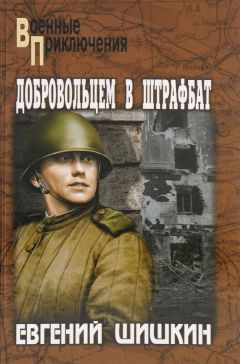Евгений Шишкин - Добровольцем в штрафбат. Бесова душа
— Позвольте не согласиться, Серафим Иннокентьевич. Любая идея переустройства требует некоторого насилия над обществом… — попался Федору голос Костюхина.
«Во как! Имечко-то какое загибистое! — про себя удивился Федор (он еще не слыхал полного имени Бориславского). — Одно отчество умом тянет…»
— Дураки мы с вами, уважаемый товарищ Костюхин! Идея на крови — уже не есть идея, а плоды развращенного мозга! — тут же услышал Федор приглушенный, но резкий и легкоуловимый голос Бориславского. — Всякий революционер достоин тюремных нар. А уж морального распятия и подавно! Неужели вы и здесь, в тюрьме, не поняли, чего мы натворили под свою идею?
— Все дело в личности. Идея может оставаться тысячу лет неизменной. Разве лозунг о равенстве и братстве нам принадлежит? Личность претворяет идею. Личность и способна дискредитировать самые великие замыслы и изуродовать их до фарса…
— Так это и есть подтверждение нашей тупости! Мы главного не учли! Интересов личности не распознали! О значении произвола на ход истории позабыли! — почти выкрикнул Бориславский.
Костюхин сразу же захотел закруглить небезопасные политические препирания:
— Больны вы сейчас, Серафим Иннокентьевич. Вам отдых необходим. Наш спор время рассудит.
Но Бориславский еще сильнее разнервничался:
— Каждый человек в своей судьбе слеп! Но ничто не делает человека более слепым, чем идея! Даже вера в Бога! Даже столетия христианства не смогли дать человечеству правды и порядка. А человек с мирской идеей в голове — слеп вдвойне! Нам с вами идея глаза выжгла… Мы страданий с вами видеть не хотели! Идея, дескать, все спишет… Не списала! Сама жизнь человека, а не насильное равенство и братство — выше всех идей! Ружье в руках слепцов оказалось. Это ружье в нас же и выстрелило… И поделом нам с вами — дуракам!
Костюхин поскорее поднялся, виновато улыбаясь, поспешил оборвать спорщика:
— Не надо здесь про богоискательство… Выздоравливайте, Серафим Иннокентьевич. Я еще приду. Каждый день приходить буду. — И радостным шепотом, доставая что-то из кармана: — Две картофелины вареных. Для вас. Вот, в тряпочке.
Посетитель откланялся, и Бориславский, обсеченный и тоже недоговоривший, как Кузьма, опять лежал с очерствелым лицом, поджав губы.
Возня в палате, шум голосов, скрип коек все реже в сонном сумраке. Печь протопилась. Федор пошерудил кочергой в топке, размельчил красные уголья. Огня над ними уже нет — угарно не будет. Он перекрыл вьюшкой дымоход печи, подался в свою каморку. Вот и сбагрил он еще один лагерный день, сбавил сроку.
22
В тесной каморке всей обстановки — топчан да квадратный дощатый стол, приткнутый к окошку. Федор лег на топчан навзничь, подложил под голову руки.
Близко к ночи. За окошком высинело, и морозный туман уж не полнится подсветкою искристого сугробистого снега. В верхнем углу рамы, за виднеющейся — на четырех столбах — сторожевой вышкой, маячит тонкий месяц. Рядом с ним горит низкая яркая звезда. Молчание повсюду. Задумчива вечерняя синь. Потемочно-смутное чувство лежит в Федоре. Словно задели в нем доселе не тронутую струну, и она муторно дребезжит, просит объяснения и разрешимости чего-то. Или ждет, когда обезголосит ее сон.
Федору вспомнилось, как отец в зачин коллективизации, отведя на конный двор жеребца Рыжку, копал на краю огорода яму для упряжи. «Молчи про все!» — строго наказал он, когда Федор изумленными мальчишечьими глазами смотрел, как отец заваливает комковатой землей новенький хомут и неезженое седло и утрамбовывает ногами. Почему отец не принес в колхоз новую упряжь? отчего так жалел ее и сказал: «Лучше сгниет, чем отдам!»? — на таковы вопросы Федор и теперь не знал решения. И даже когда прокатился поборный вал «общинства» и можно бы разрыть могильник с пользою для личного хозяйства, отец этого не сделал. Федор однажды упомянул о том, да и сам пожалел: «Отрезанную руку не приставишь! Уговора моего забыл? Молчи про все!» Но временами Федор замечал: чем-то мучается отец, будто долгая тяжба у него с кем-то из-за утраченного, или отобранного, имущества. Умом-то отец как бы принимал новую сельскую устроенность, понимал выгоду слаженного труда, но душою от него сторонился, не мог простить прегрешений колхозным зачинщикам. Ведь и «кулаку» Кузьме все невдомек, за что его со своей земли поперли. Разве справедливая воля в «ихой» деревне голытьбу да отребье поставила на правление? Даже с умным именем Бориславский, Серафим-то Иннокентьевич, с корешком своим Костюхиным в чем-то состыковаться не могут. Судят да рядят «про личность», выясняют: той ли истине взялись служить. «Нам идея глаза выжгла… Всякий человек в своей судьбе слеп…» — запомнились Федору подслушанные запальчивые фразы.
В каморку заглянул санитар Матвей. Уставился зрячим глазом на Федора. Заговорил подобострастно:
— Ранехонько сегодня, Федька, спать-то устроился. Мне доктор велел в коридоре подтопить. Морозом тянет, а он к холоду дюже чувствителен. Я там «буржуйку» приспособил. Ты, родимый, давай-ка подымайся.
— Доктор тебе велел. У самого руки не отсохли, — неласково обошелся Федор.
— Мне к семье надобно. На часок отлучиться.
— Опять, старый конь, к бабе побежал?
— У меня там не шашни, а обчество. Ты до тюрьмы бессемейным жил, а я семьянин. Мне и здесь семья надобна для успокоения сердечной недостаточности, — оправдывался Матвей.
Многие из лагерной «придурни» обзаводились на зоне подругами, создавали своеобычную семью. Санитар Матвей регулярно, а подчас и неурочно бегал в бабий барак, где сошелся с лагерной прачкой. Щекотливые помыслы заползали и к Федору — подыскать зазнобушку-зэчку, притулиться к ней, поделить неволю. Но пока не удосуживался ступить на бабью половину.
— Скажи, Матвей, — неожиданно поинтересовался Федор, — чего такое судьба?
Матвей растерянно замигал глазом.
— Судьба, Федька, от человеческой наклонности зависит. Чему будешь молиться, такую и судьбу изберешь. По медицине-то еще характер сыграть многое может, а по жизни-то: чему поверишь, тому и подчинишься. Во всякой вере и есть человечья судьба. Вверился ты своей девке — под ее влияние и заступил. И судьбу таковскую себе выбрал…
— А любовь, по-твоему? — с усмешкой копнул Федор. — Ты свою прачку-то любишь?
Матвей улыбнулся:
— Как же не любить! Любовь — это доброе отношение бабы к мужику, и обратно. В этом рецепте и есть семейственность уз.
Федор рассмеялся:
— Экий ты знаток, Матвей! Чего ни спроси, все у тебя проще простого.
— Некогда мне сейчас, Федька. Подымайся. Там, к печке, только спичку поднести. Все налажено.
— Э-э нет, — заупрямничал Федор. — Я тоже с семьей хочу побыть.
— Где она у тебя? — удивленно оттянул нижнюю челюсть Матвей, насмешливо блестел большим единственным оком.
— Я себе и есть семья! — сказал Федор и грубо заключил: — Тебе велено — ты и топи!
— Холеру бы на тебя на холерика! — заругался Матвей, но без особой обиды, для соответствующего порядка.
Просьбе Сухинина Федор подчинился бы в любой миг, но санитар Матвей для него еще не указ. Тюремной науки Федор уже погрыз: подай кому раз сапоги — все время подавать будешь; уступи разок в чем-то — навсегда в уступщики запишут. «Эй-эй, хлопчик, никому спины не подставляй и никому не верь. Вон ежик, он хоть и махонький, а волчара к нему не подступись. Согнешь разок спину — вволю накатаются» — так еще Фып наставлял.
Матвей с руганью ушел, и Федор тут же забыл о его просьбе.
Та же картинка в окошке. Серебряным ноготком висит месяц над караульной вышкой. Звезда нанизывает даль на свой холодный свет из глубины вечности. И стынущее молчание кругом. Зимняя вечерняя тоска самая глухая, вязкая, — многодумная. Струна дребезжит внутри…
Что же это на свете делается? Волохов власть клянет, царей и вождей то трутнями, то жуликами считает. Умник Бориславский дураком себя готов признать. Кузьма вламывал всю жизнь, а никакого почета — как убивец мрет в неволе. Доктор Сухинин красоту обхаял. Любовь болезнью назвал. Послушаешь, поглядишь — так ничего святого и ясного на земле нету. Во всем и везде каверза да обман. Выходит, что кому-то из людей жизнь не для радости, а для маеты дается. Если так, то и смерть не есть горе, а избавление от мук Ведь и он, Федор, не так давно подумывал непонарошку ступить на запретную, расстрелы 1ую межу под дуло часового.
Жизнь дома, на свободе, теперь казалась какой-то пригрезившейся, чужой. Не верилось, что мог самозабвенно плясать топотуху в кругу девок под резвую гармонь Максима; хохотать до колик с плясуном Паней; щупать девок, задирать юбку Дарье на душистом сеновале и, наконец — обнимать и целовать Ольгу.
Об Ольге он вспоминал со сладкой мукой. Нетерпеливая тяга к ней живо пульсировала в нем под тяготой тюремных обстоятельств. Он не отрекся пожизненно от Ольги, просто старался не бередить это. Словно бы короста на душе, которую трогать не следует, пусть она даже зудит, тянет, ждет прикосновения. Тронешь ее — опять закровоточит рана. Потом лечи ее, пока не обрастет очередной коростой. Безбожный доктор Сухинин все страдания человека рассудил по-своему, вывел пагубные диагнозы и причину им сыскал — красоту «Неужель он прав?» — спрашивал Федор себя и всех людей разом… А что есть судьба? Случай? Дурной или счастливый? А вдруг простоватый-то Матвей больше всех знает и зорче всех одним глазом жизнь видит? Судьба, говорит, это вера. Выходит, моя судьба в Ольге заключена? Все в ней — и счастье мое, и несчастье? Нет, признать и подчиниться этому не хотелось. Не хотелось, чтобы впредь Ольга распоряжалась им — пусть и не прямым приказом, а посредством посторонней злой силы. Отрезать бы ее от себя. Забыть! Но как забудешь? Да и жалко. Не курва же она…