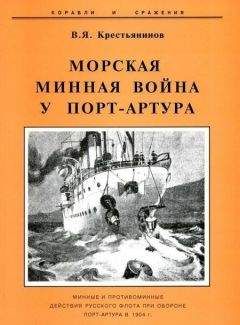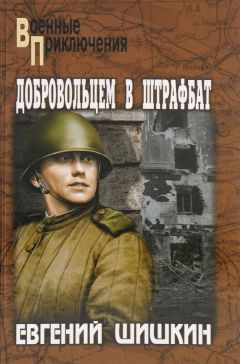Евгений Шишкин - Добровольцем в штрафбат. Бесова душа
— Красивая?
— Кто, Ольга-то?
— Пусть будет Ольга…
— Наверно, и краше есть.
— Вот видите, молодой человек, красота и вами управляла. Вы у нее на поводу шли — пожадничали. Не захотели свою девушку уступать.
— Вроде это не жадностью, — чуть краснея, возразил Федор, — а любовью зовется.
— Любовь — это и есть желание воспользоваться чьей-то красотой. Не обязательно красотой внешней и явной, красотой в широком смысле. И не просто воспользоваться, а поработить ее… Был такой писатель — Достоевский. Кстати, тоже каторгу прошел. Ему крылатая фраза принадлежит: «Красота мир спасет!» Ошибался классик Это видимость, что красота несет в мир свет и гармонию. В красоте, как в бомбе, заложена великая разрушительная сила. Красота — это великий соблазн и посыл к злодеянию. Ваша любовь, молодой человек, тоже попала под этот диагноз… К месту сказать, все наши русские писатели по-разному объясняли мир, но одинаково забывали, что сами всю жизнь гонялись за красотой и часто становились ее рабами. Тот же гениальный Пушкин — как выразитель многих писательских рвений…
Когда Сухинин говорил о чем-то предметном, касавшемся работы, он смотрел прямо и твердо, когда начинал о том, чего не пощупать и не увидать, взгляд его стеснительно плутал. Федору даже казалось, что Сухинин перед ним в чем-то пытается оправдаться или стыдится за какой-то поступок, о котором Федор ведать не ведает.
Подноготную доктора Сухинина знал одноглазый санитар Матвей. Часть этих сведений по-приятельски перепала Федору.
Дело на Сухинина сперва раскручивалось по редкой уголовной статье (практика тайных абортов), но позднее распухло до политической — присовокупили его барское происхождение: во врачебной династии Сухининых числился придворный лекарь. Роковой и всего лишь разовой пациенткой пришлась красавица практикантка клиники, где оперировал Сухинин. Единственная дочура, любимейшее чадо, бесценный цветок управляющего большой стройкой, она после операции, испугавшись затянувшегося кровотечения и гнетущей слабости, впала в истерику, во всем созналась встревоженным родителям. Влиятельный папа вывел врача-изверга на чистую воду и похлопотал, чтоб того умыкнули надолго, без права переписки. Но предыстория всему этому началась много раньше. Сухинин собирался эмигрировать в Берлин — по пятам многих уехавших добровольно или изгнанных из страны интеллигентов. Но в заграницу вероломно махнула его жена, с человеком, которого он с детства считал верным другом. На кухонном столе, возвратясь из клиники, Сухинин нашел записку со стихотворной строфою.
Клич сердила -
Разума сильней.
Прости-прощай!
Ирина и Андрей.
«…Он мужик-то тонкий, литераторный, — рассказывал Федору санитар Матвей. — По-медицинскому сказать, меланхолик будет. Такие уж больно переживательны. Запил с горя-то, чуть места своего не лишился. Да подвернись ему молоденькая одри… обри… Погоди, сейчас верно выговорю. Ординатурка! Знамо, это еще не врач, но уж полврача есть. С учебы, значит. Она хороша была. Красавица по всем меркам. Он и воспалился новыми сантиментами. Опять выправился, вино пить перестал. Стал ординатурку-то выгуливать, цветочки подносить, в театральную ложу ходить. Она к нему тоже взаимность питала. Сухинин ее и уломал с добрым расчетом. Замуж просил выйти. А она чего-то спужнулась: иль возрастом он ей показался староват, иль любови ей в себе показалось мало. Заупиралась ослицей — и ни в какую. Она и была той дочкой мужика-то со стройки, управляющего…»
…Наконец Федор усмехнулся и спросил доктора:
— Так чего ж, Сергей Иванович, выходит, людям и не любить? От красоты тряпку на глаза повесить?
— Нет, разумеется… И любить, и красотой наслаждаться. Но по единому нравственному закону. Пока не будет единого нравственного закона, человек всегда будет страдать. Чаще всего сам не понимая, за что страдает… Красота и любовь, молодой человек, это наркотики. Их употребление должно быть строго дозированно… Морфий разлагает тело, красота и любовь разлагают волю. Безвольный человек всегда опасен, — последние слова он произнес сухо, дежурно, как не свои. Он о чем-то задумался и, казалось, снова остался совершенно один — этот интеллигентный «тюремный лепила», который жаргонных слов сам никогда не употреблял.
Позже Федор возьмет с холодной узкой ладони Сухинина несколько таблеток с его предписанием:
— Это анальгетик для Кузьмы. На несколько часов боль снимет. На ночь укол ему сделаем.
21
Вечереет. В палате тюремной санчасти густеет белый зимний сумрак Прихваченные снизу изморозью оконные стекла начинают отпотевать, тонкий ледок плавится на них от теплого дыхания растопленной печи. На табуретке истопника сидит Федор, смотрит на яркие щели вокруг толстой чугунной дверцы. Там, за нею, плещется на березовых поленьях и гудит огонь. Мелкие угольки сыплются в пепел приотворенного поддувала.
В палате кто-то шушукается меж собою, кто-то со вздохом переворачивается, сменяя отлежалый бок на другой, жиганы-симулянты неустанно тасуют кустарную колоду карт.
Поблизости от истопничьего места лежит «кулак» Кузьма. Федор вслушивается в его исповедальческий горший голос, который Кузьма отряжает человеку на соседней койке. И не кому-нибудь, а марксисту, ВКПбэшнику, революционеру-ленинцу и врагу народа Бориславскому. Откуда знать Кузьме — на лбу не писано, на лагерной нашивке не мечено, — что исповедник его сам теоретически обосновывал вред кулацкого класса для пролетарского дела. Но если бы даже Кузьме доложили про это, он вряд ли бы смолк Кузьме — скорый конец. Жутко умирать, никому ничего не поведав перед исходом! Пусть даже супротивнику.
— Ты вот рассуди, мил человек. — Кузьма чуть приподымал перед грудью трудяжистые, с толстыми венами руки, однообразно и невпопад жестикулировал ими. — Приехали меня раскулачивать. Да кто ж приехал-то? Стенька Борона — он одинокой, бобыль, в жизни путем не рабатывал, в карты бился, а в коллективизацью в большевики устроился. Коля Сивый — этот был первый на деревне лямой, за чего ни возьмись — все наперекосяк. Да председатель сельсовета Гришка — дезертир с германской. С ними двое солдатов с винтовками из району. «Мы, — говорит, — постановили: ты есть вражий елемент и кулак». «Окститесь! — говорю. — Какой же я елемент, если я с сыновьями раньше всех в деревне-то встаю да позже всех ложусь, каждый колос считаю?» А они талдычут: «Ты есть мироед. Ослобождай избу! Сдавай имущество в нашу телегу!» Баба моя в голос реветь — детёв полна изба. Двое-то сыновьев уж взрослые, и дочерь на выданье, а остальные малы… Выпирают нас из избы. Двух лошадей и двух коров с телочкой из хлеву гонют. Старший мой красными пятнами пошел. Не стерпел. Председателю Гришке — в рыло. Потом на солдата кинулся. Тут его и пристрелили… Остальных детёв вместе со мной да с бабой — в ссылку. По дороге двое младшеньких от тифу кончились. Дочерь Наталию начальник поезда, изнасиловал. Она, горемышная, на ходу из вагону сбросилась. Тут и мое сердце не вынесло — выследил и задушил поганца.
Бориславский, невольный окрестный слушатель, лежал неподвижно, с каменным лицом, поджав губы. Он, казалось, не хотел слушать кулацкую правду Кузьмы, но сносил, как сносят скрип чужой немазаной телеги, в которую набился попутчиком.
В санчасть Бориславский попал накануне. Его на санях приволокли с вырубки с раздробленной коленкой. Неловкий для лесной работы, он хрястнул топором плашмя по ветке, топор и срикошетил ему в колено. Прискакивал в санчасть следователь, вынюхивал: нет ли в травме умысла членовредительства. Отвязался. Бориславскому натуго запеленали ногу, дали лежачий покой.
— Так вот, мил человек, — адресовался к нему Кузьма. — Разве бы этак оборотилось, ежели бы меня в елементы не записали? Этак-то они меня не елементом, а убивцем сделали! Из крестьянского-то пахаря в убивцы! Так всякого под злодейство подвести можно, ежели человеку-то на горло наступить. Да ведь кто ж опять наступил? Стенька-то литовку путём отбить не умел.
Слова и вопросы Кузьмы безответно растворялись в тускнеющем сумраке вечера. Да и всего он не досказал.
В палату, с мороза, впуская за собой студеный воздух, пришел Костюхин — обобщенный подельник Бориславского. Он негромко поздоровался, окинув всех взглядом, подошел к кровати приятеля, тихонько устроился с краешку. «Кулаку» Кузьме теперь лежать молчальником. Он в их словопрениях — помеха.
Костюхин заговорил с Бориславским утишенным голосом, трусовато. У опера на зоне везде уши, кто-нибудь придерется к слову, настучит, наклевещет… Но сегодня Бориславский слишком раздражился: либо сказывалась травма, либо пошатнул нервы Кузьма, либо приятель вывел из равновесия поперечной мыслью. Кое-что просачивалось из их разговора, они порой небрежничали, обнажая укромность сообщества. Федор усиленно ловил каждую фразу: такие люди для него занимательны. Кузнец или гончар всегда дивится на клоуна с бутафорским носом из кочующего балагана: как такой шут живет? как умеет сшибать с полоротой публики за свое кривляние двугривенные? где такому учен? Так и для Федора: образованные по особым, богохульным, толстым, марксовым и ленинским книгам, прозванные теперь «контрой» Бориславский и Костюхин — ягоды другого, дальнего поля.