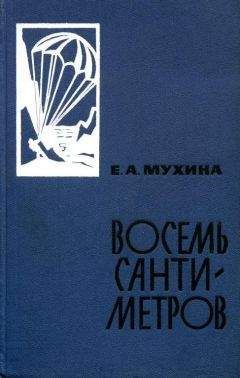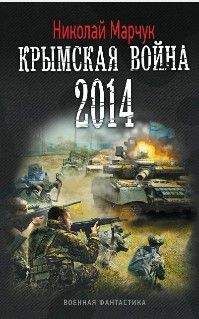Кристина Живульская - Я пережила Освенцим
Позади нашего жилого блока находилась уборная. Напротив стоял крематорий. За этим крематорием виднелись трубы следующего. А когда мы выходили по другую сторону барака канцелярии, то видели третий крематорий. Посреди всех этих «улиц» одиноко стояла зауна. Вдали, за зауной, виднелись контуры четвертого крематория. Все крематории снаружи выглядели одинаково: одноэтажное широкое здание из красных кирпичей, с двумя торчащими в небо трубами. Все огорожены колючей проволокой. Проволока оплетена ветками для маскировки зданий. Таким образом, издали видны только трубы.
Зауна здесь была построена продуманно. Через нее пропускались тысячи людей. Это было внушительное кирпичное здание. Внутри — души, залы-раздевальни. Камеры для санобработки одежды. Горячая вода круглые сутки. В подвалах печи.
А вокруг — проволока, электрическая проволока.
Территория Бжезинок очень разнородна. Кое-где жидкие березовые рощицы, с которыми, очевидно, связано название былой деревни. За воротами, по обе стороны дороги, ведущей к крематорию, у белого домика — поля касатника и люпина. Пространство между нашими бараками засажено картофелем и овощами. Вдоль бараков — газоны и цветущие клумбы. Наиболее живописной была территория, прилегающая к крематориям. Вид белого домика вселял в душу беззаботность. Когда солнце освещало эту часть Бжезинок, уединенная усадьба казалась приютом тишины и покоя. В этом идиллическом домике происходили казни. Стены белого домика внутри были забрызганы кровью. Там расстреливали. Там расправлялись с небольшими группами, насчитывающими до сотни человек.
Глава 2
Цуганги
— Команда эффектенкамер. Antreten! Строиться! — Мы быстро построились пятерками. Перед нами стоял шеф. Он заявил, что прибыл транспорт из Майданека. Почти 1000 человек. Нам приказали заполнить карточки на прибывших. Одежду не менять, они из другого лагеря, следовательно, в лагерной одежде. Конечно, эту одежду следует подвергнуть санобработке в зауне. Работать будем всю ночь, надо всех переписать. С мужчинами разговаривать нельзя под угрозой перевода из нашей команды в «штрафенкоманду».
Мы прошли через бараки «Канады», где уже ожидали женщины из нового транспорта. Все они — из ревира Майданека. Старые и больные женщины.
В следующем, пустом бараке мы расставили столы. Началась «приемка». Я припомнила свой приезд в лагерь, свои первые впечатления. Хорошо знала, что человек, приезжающий в лагерь, боится всего и всех, что он ошеломлен, испуган. Я решила поэтому быть очень терпеливой, отвечать на все вопросы, успокаивать, подбадривать. Моя жизнь начинала приобретать смысл. На этой своей новой должности я могла сделать много добра.
В барак начали поступать прибывшие. Пожилая, седая женщина с мягким взглядом подошла к нашему столу.
— Фамилия? — спросила я.
— Маевская Мария.
— Возраст?
— Пятьдесят шесть лет.
— Откуда?
— Из Варшавы.
— Профессия?
— Учительница.
Я записала данные в карточку и невольно подумала: «Больше месяца не протянет».
— За что вас взяли? — спросила я шепотом.
— За газеты.
— Давно вы уже в лагерях?
— Три года. Сначала Равенсбрюк, затем Майданек, теперь Освенцим. Я совсем больна, тут, наверно, и закончу эту экскурсию по лагерям, а как бы мне хотелось дождаться… Уже недолго осталось — наши войска под Люблином. Лучшим доказательством служит наша эвакуация. Мой сын ждет меня. Знаете, почему я держусь? Потому что это я в заключении, а он свободен.
Ее лицо сияло. Сколько в ней еще силы.
— Выше голову, — сказала я, — дождетесь и вы!.. Следующая!
Подошла старушка, сгорбленная, маленькая, она беспокойно озиралась по сторонам.
— Пожалуйста, ко мне, не бойтесь. Ваша фамилия?
— Петрашевская Юзефа.
— Профессия?
— Когда-то — работница, теперь уж мне не работать, сами понимаете.
— За что вы в лагере?
— За дочь-коммунистку. Ее искали, я не выдала и здесь не выдам…
— Тут вас не будут бить, — пробовала я убедить ее.
— Вы думаете? — Она недоверчиво взглянула на стоявших рядом эсэсовцев.
Проходили одна за другой — старые, очень больные, едва передвигавшие ноги. Это были по преимуществу матери, искупавшие вину сыновей, дочерей. Некоторые попали в облаву, другие были схвачены за то, что скрывали кого-то, накормили бродягу, а потом оказалось, что это «опасный партизан». Измученные, больные женщины должны были стоять часами на ногах и ждать, пока эсэсовцы укажут им нары в темном углу барака.
Проходили часы, я работала, не вставая с места, язык у меня одеревенел, в глазах мелькало, и не было конца этому страшному потоку несчастных, растерянных, дрожащих старушек.
Поздним вечером осталось зарегистрировать несколько десятков человек. Но эти оставшиеся совсем не могли двигаться. Они лежали на носилках, на земле у входа в барак. Эсэсовцы перепрыгивали через них, ругались, что должны ночью стеречь их.
С карточками в руке я нагнулась над носилками, на которых лежала какая-то женщина.
— Фамилия?
Она подняла голову и взглянула на меня широко открытыми, полными слез глазами. У нее было маленькое лицо и совсем белые волосы.
— Comment? Что? — спросила она.
— Француженка?
— Да.
— Ваше имя?
Она уронила голову на грудь. В открытую дверь барака заглядывала теплая апрельская ночь. Больная взяла мою руку, притянула ее к сердцу.
— Моя фамилия?… Я ведь уже умираю… Не все ли равно здесь, кто умер?
Голос ее прерывался, был едва слышен. Я видела — она доживает последние часы.
— Но все-таки фамилия мне нужна, — бормотала я, — для порядка.
Она все крепче сжимала мою руку…
— Для порядка, говоришь ты… да, для них порядок — это все.
Она подняла голову.
— Ты напоминаешь мне мою дочь, подержи еще так руку, — просила она, видя, что я хочу отойти. — Я буду думать, что это она сейчас со мной.
Женщина прикрыла глаза. С минуту лежала тихо. Рядом стонали больные. Около умирающих стояли на коленях мои подруги и силились от них добиться анкетных данных.
В барак влетел эсэсовец с хлыстом в руке, что-то насвистывая. Наступил ногой на какую-то больную, перескочил через француженку, оглядел всех кругом и заорал: — Долго будете регистрировать это дерьмо? Что? Еще много?
Бесцеремонно расставив ноги над лежащей на полу умирающей, упершись в бока, он окидывал всех вызывающим взглядом, как бы говоря: «Могу с вами сделать все, что мне заблагорассудится, попробуйте не питать ко мне уважения, попробуйте не бояться меня».
Тишина воцарилась в бараке. Вдруг француженка стремительно вытянула руку вверх, глядя на эсэсовца безумными глазами.
— Это война! — крикнула она страшным голосом. — Здесь война… здесь фронт… Боже, какая страшная война!
Эсэсовец резко повернулся, стегнул хлыстом по лицу кричащей женщины и одним прыжком выбежал из барака. Изо рта, из носа больной потекла кровь. Она упала на носилки.
Меня обдало жгучей ненавистью, я готова была бежать за ним, я была в эту минуту близка к безумию. Но больная все держала мою руку.
— Дочь моя, — шептала она.
Я прижалась к этой чужой женщине и разрыдалась.
— Кристя, успокойся, возьми себя в руки, — просили подруги. — Это только первые цуганги, их ведь привезли сюда не на смерть, с ними ничего не случится. Так нельзя, подумай о себе, выйди на минутку, пока нет шефа.
Я вышла, но не могла успокоиться. Что теперь делает ее дочь? Приходили мне в голову разные глупые мысли. Может, танцует где-нибудь в парижском дансинге с каким-нибудь гитлеровцем, может, даже с братом этого, что сейчас здесь был?.. А может, в эту минуту умирает где-нибудь в другом лагере?…
Перед зауной на земле горела куча какого-то тряпья. Отблеск пламени освещал человеческие фигуры вокруг костра. Я подошла ближе. Это сжигали лагерную одежду мужчин, прибывших из Майданека… Голые, истощенные, кости да кожа, они выглядели при свете пламени, как зловещее сборище скелетов. Я повернула обратно. За бараком что-то белело в темноте. Я вся дрожала, но шла, пересиливая страх. Ногой споткнулась о что-то твердое. Это был труп мужчины, рядом лежал второй и третий. Их было несколько. Мне вспомнилось, как подруги упомянули о том, что в вагоне умерло много мужчин. «Это белое — известь, которой залили останки, чтобы не распространяли зловония», — подумала я с полным спокойствием, трезво. Куда же идти? Повернуть назад я боялась. Уж лучше трупы, чем живые скелеты. Вернуться в барак было выше моих сил. Меня все еще преследовал безумный крик умирающей француженки. Только бы не сойти сейчас с ума. «Я ведь уже совсем здорова, — громко говорила я себе, — перенесла тиф, меня зовут Кристина Живульская, мой номер…» Я твердила все время свои анкетные данные.