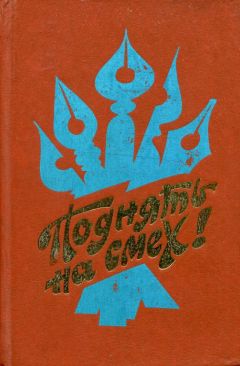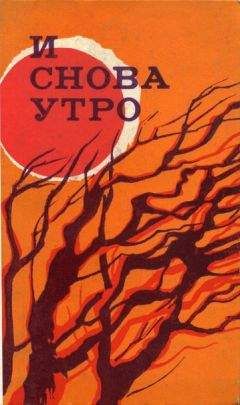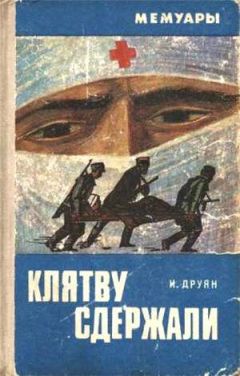Ибрагим Абдуллин - Прощай, Рим!
— Товарищи, спать! Берегите силы, — скомандовал Леонид, но сам до рассвета глаз не сомкнул. Слишком много для одного дня оказалось впечатлений… Новая арестантская форма, нагота изможденных людей, призыв вступить в «армию» негодяя Власова, встреча с бывшим однокашником, смелый поступок Дрожжака и кара, грозящая ему за это… И наконец — ночь в низком, душном бараке.
Откуда-то издалека — то ли из города, то ли с усадьбы лагерного начальства — донеслось пенье зоревого петуха. Точь-в-точь как у них в Оринске. Точь-в-точь…
На следующее же утро их погнали на каменоломни. Послали вытаскивать глыбы известняка из глубокого карьера. Сто двадцать пять ступеней вверх — к самосвалам, сто двадцать пять ступеней вниз — за камнем. Оступишься, поскользнешься, прости-прощай тогда бренный мир! Вовек костей своих не соберешь. Долгий день напролет — с утренней зари до вечерних сумерек — сто двадцать пять ступеней вверх, сто двадцать пять ступеней вниз. Ни роздыху, ни перерыва, ни обеда. От темна до темна — вверх, вниз. Вверх, вниз. А на спине глыба пуда в три. Можешь — терпи. Не можешь больше, так выход один: доберись до сто двадцать четвертой ступеньки и — кинь измученное тело свое туда, в зияющую пасть каменоломни. Частенько случается, что это дело берут на себя часовые. Пленный из последних сил, в последний раз поднимает ногу, чтоб поставить ее на следующую ступеньку. Но ничего не получается. Он останавливается на мгновение, переводит дух. И если часовому мгновение то покажется слишком долгим, он примчится к несчастному резвыми прыжками и вместе с камнем столкнет его в пропасть.
Душераздирающее «ай!» — и камень гулко стучит по камням…
Уже в сумерках звучит гонг, раздается команда — строиться! Бесконечной колонной тянутся пленные в лагерь. И трудно понять, живые это люди или призраки.
У бараков новая команда — раздеваться! В первый день Петр решил было, что их собираются повести в душ, даже пошутил:
— Чистоплюи и аккуратисты эти фрицы. После работы не пускают домой, покуда в бане не отмоешься!..
Но ошибся Петруха. Не для того их заставили раздеться догола, чтоб искупать под душем да свежим бельем оделить. Аккуратисты фрицы проводили предусмотренный лагерным уставом обыск, или, как говорили ребята поразбитнее, шмон.
Одежду складываешь перед собой, а сам опускаешься на колени. Впереди проходит один из охраны, перетряхивая и прощупывая штаны и робу, сзади, зорко присматриваясь, с плеткой в руках, прохаживается другой. Если фигура чья придется ему не по вкусу или просто найдет «вдохновение», он со свистом махнет плеткой и ошпарит тебя по мягкому (впрочем, уже не по мягкому!) месту…
Унизительная процедура растянулась на полчаса. Петр собрался было вскочить и броситься на немца, размахивающего плеткой, но, к счастью, Леонид успел его удержать:
— Мы как договорились?
— Чем тут позориться, лучше в могилу лечь.
— Береги нервы. Рано еще умирать.
— Одеваться! Шнель, шнель!
И всюду «шнель!». Ешь ли, работаешь ли, ложишься, встаешь, даже в уборной сидишь — одно и то же «шнель!». За целый день от этого хлестко-шипящего «шнель, ш-шнель!» голова разламывается, в ушах звон стоит.
Терпелив человек. Но Леонид понимает, что люди, забывшие, когда они досыта наедались, и измученные непосильной работой, долго не выдержат. Кризис неизбежен. Он внимательно присматривается к своим. Дрожжак порой за день слова не скажет, ходит себе, горестно скривив губы. Может, снова побег замышляет… Никита Сывороткин, который прежде лихо изрекал: жизнь — копейка, судьба — индейка — и любил равнять себя с Прохором, героем «Угрюм-реки», теперь только и говорит, что про жратву. И Бодайбо забыл, и Прохора не поминает.
Вот и сейчас он сидит, размазывает слезы по грязным щекам, нудно так тянет:
— Эх… да что там… Все равно все мы, все передохнем, как мухи. Нет, не могу я больше эдак жить, не могу больше…
— А чего же ты думаешь сделать, чтоб по-другому зажить? — спрашивает Ишутин, насмешливо поглядывая на него. — Утрись. Нечего фрицев потешать.
— Им и без меня весело. Половину России захапали, — ноет Никита, но слезы утирает.
Лицо Леонида приобрело жесткое выражение.
— Хватит! — крикнул он вдруг, как уж давно ни на кого не кричал. Да и вообще он терпеть не может орать на людей.
— Чего хватит-то? Разве не правду я говорю? Ну, разве не правду? — Никита встает и, не глядя на товарищей, бормочет: — Или на колючку брошусь, чтоб током убило, или…
— Или? — Леонид тоже вскакивает с места. — Договаривай, коль начал. — Он кладет тяжелую руку на плечо Сывороткина. — Никакой ты не кедр сибирский, а камыш трухлявый…
— А ты дуб… — Никита освобождает ворот из пальцев Леонида. — Хотел бы я через месячишко посмотреть, что от этого дуба останется. Немцы-то уж до Сталинграда дошли.
Когда Никита ушел из барака, Ильгужа слез с верхотуры и подсел к Леониду.
— Колесников, беспокоюсь я за Сывороткина. Как бы, говорю, чего не выкинул.
— Трус на себя рук не наложит, не волнуйся, Ильгужа.
— Да я не о том, а… — Ильгужа перешел на шепот: — Как бы, говорю, к тем не переметнулся.
— Пусть только попробует, — сказал Петр, заскрежетав зубами. — Отбивную сделаю.
— С тебя станется. Куда потруднее удержать человека от подлого поступка. — Леонид обратился к Ильгуже: — Ну-ка, верни его. И вообще скажу, не следует с него глаз спускать.
Ильгужа выбежал за Сывороткиным и две-три минуты спустя возвратился, ведя того за руку.
— Чего вы ко мне пристали? — Глаза у Никиты вытаращены, как шары, и теперь особенно ясно видно, что они у него не такие черные, как были когда-то. Потускнели, словно бы полиняли, стали цвета кедрового ореха.
— Садись. Покурим?
Никита вдруг присмирел.
— Коли дашь, покурим.
— На вот, подыми и забирайся на место. Спи.
Задумался Леонид. Похоже, и в самом деле война не скоро кончится. Фашисты дни и ночи орут о решающем наступлении. По радио все передают марши и барабанную дробь. Его-то самого, допустим, не поймать на крючок гитлеровской пропаганды. Но в лагере народу тьма, разные люди есть. Капля камень точит… Следовательно, как-нибудь да надо разузнать правду о положении на фронте. Неужели немцы и впрямь до Сталинграда дошли? Неужели враг прорвался далеко в глубь страны и ведет бои в предгорьях Кавказа? Как бы выяснить, где правда, где обман? А если правдой окажется как раз то, о чем немцы трубят? И что будут думать пленные, когда они убедятся в успехах противника? Может быть, плюнуть на все, улучить подходящий момент и бежать? Если действовать в одиночку, дело, пожалуй, выгорит. Эх, напрасно он, хотя бы путем унижения, не выцарапался на волю еще в Луге. Тогда бы он знал, что делать. «Ладно, Леонид, прошлого не воротишь. Не к лицу казаку думать лишь о себе. Надо и товарищей выдрать из этого ада. Но как? На карьер и обратно ведут автоматчики, при них свора овчарок. Пуля не скосит, так овчарки догонят. А если всей колонной на конвой напасть?.. Местность совсем незнакомая, до наших ой-ой как далеко: пока доберешься, всех перебьют. И насчет партизан в этих краях ничего не слыхать. Ишутин предлагает оглушить шофера и попробовать на самосвале прорваться. Надо поразмыслить, взвесить…»
Нет, и с этим вариантом ничего не вышло. В ближайший же воскресный день во время утренней поверки на площадку перед их бараком явился начальник блока и на ломаном русском языке заговорил:
— Если среди вас имеются мастера, плотники или слесари, три шага вперед!
На прошлой неделе по соседству тоже отобрали плотников и слесарей и куда-то отправили. Если не брешут, ходят слухи, что они теперь в мастерских работают. Конечно, под немецкой плеткой и в мастерских не мед. Но все же не то, что таскать камень в карьере. Леонид ткнул локтем Антона и Ильгужу, стоявших рядом.
— Передайте дальше, пусть действуют по моему примеру! — выступил вперед и заявил: — Я слесарь.
— Где работал?
— В МТС.
— Гут. Следующий?
— Я плотник, — сказал Ильгужа, выйдя из строя за Колесниковым.
— Где работал?
— В колхозе.
— Гут. Следующий.
Леонид стоит спиной к строю, не может видеть, что там делается. Узнает своих лишь по голосу. Вот заговорил Ишутин.
— А ты где работал? — испрашивает у него немец.
— Изношенную ось земного шара менял, — нахально посмеивается Петя.
«Эх, и чего это Ишутин вечно беду на свою голову кличет? Не время бы сейчас!..»
Немец то ли не понимает, то ли нарочно переспрашивает:
— Где? Где?
— На кузне… Оси для бричек ковал.
— Гут.
«Уфф, кажется, пронесло, не понял немец издевки». Среди тех, кто назвался мастером, были все члены дружины. А вот голоса Сывороткина Леонид так и не услышал. Вечером, когда легли спать, ребята подошли к Никите, спросили: