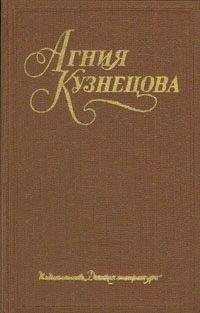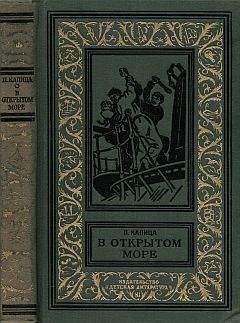Аурел Михале - Тревожные ночи
Только тогда я понял, что и Паску был коммунистом. Моя догадка вскоре подтвердилась. Частенько ночами он совсем не бывал дома. И я напрасно ждал его, не смыкая глаз. Иногда он уходил из дому засветло, набив карманы листовками. В такие дни мы обыкновенно встречались с ним у ворот мастерских в толпе рабочих.
— Георге! — окликал он меня. — Ко мне никто не приходил?
— Никто, дядя Паску! — отвечал я, несколько удивленный этим вопросом.
А он все реже и реже бывал дома. Весь день, голодный и усталый, он работал в мастерских, ночью же где-то пропадал. Как-то Паску не приходил домой три или четыре ночи подряд. Когда же наконец он явился, я спал у открытого окна, положив голову на подоконник. Проснулся я от ласкового прикосновения его руки. Мне как раз снился сон, будто домой возвратился отец. Он был весь оборван, но лицо его светилось радостью. Он уже протянул руки, чтобы обнять меня, но в этот момент я проснулся и, поняв, что это был всего-навсего сон, чуть не заплакал от огорчения. Паску молча сел рядом и посмотрел на меня своими по-детски ясными голубыми глазами.
— Ты знаешь, Георге, — задумчиво прошептал он, когда я рассказал ему о своем сне, — мне кажется, что твой отец жив!
Я не поверил его словам и подумал, что он говорит так, чтобы меня успокоить. Но эта слабая мимолетная искорка надежды почему-то сблизила меня с Паску. Весь день я не отходил от него ни на шаг, надеясь, что он, может быть, скажет еще что-нибудь об отце. Однако Паску упорно молчал и работал с каким-то мрачным Ожесточением. Он ни с кем не разговаривал и только в обеденный перерыв о чем-то шептался с сухопарым рабочим из литейного цеха.
Вечером, после работы, мы пошли вдоль железнодорожной линии. У водокачки, у колонки, мы остановились и попили воды. Паску стал умываться, все время поглядывая на стоящие на путях товарные составы. Я почувствовал, что умывается он лишь для отвода глаз… Вскоре к водокачке, у которой мы стояли, подошел осмотрщик вагонов с двумя маленькими молотками на длинных рукоятках. Нагнувшись, чтобы попить воды, он протянул Паску молоток. Потом они медленно пошли по линии между поездами. Я последовал за ними. Вскоре раздались звонкие удары молотков о колеса вагонов. Кое-где слышались приглушенные вздохи стоящих под парами паровозов да размеренные шаги немецких часовых. Пройдя семь — восемь вагонов, я заметил, что, прежде чем нагнуться и ударить молотком по колесу, Паску смотрел на написанные на дверях вагонов слова. Идя за ним, я тоже начал присматриваться к этим надписям. На всех вагонах этого состава было написано «Deutschland» [6], а на соседнем составе — «Explosiv» [7]. «Значит, один состав идет в Германию, другой — на фронт!» — подумал я.
По дороге домой я не стал расспрашивать Паску, хотя мне показалось странным, что он взялся за дело осмотрщика вагонов. Дома мы поели хлеба с помидорами и луком, потом легли спать. Паску одетым растянулся на кровати, закинув руки за голову и уставившись в потолок. Возможно, он задремал, потому что, когда к нам постучали в окно, он испуганно вскочил и не сразу пришел в себя. Потом Паску осторожно открыл дверь и, стараясь не разбудить меня, бесшумно вышел.
Я бросился к окну. Паску быстро скрылся в темноте с каким-то человеком. С железнодорожной станции доносились длинные резкие свистки паровозов. У меня мелькнула мысль, что Паску побежал туда, чтобы поспеть к отходу поезда. Я открыл окно и, затаив дыхание, стал ждать. Станция была в каких-нибудь шестистах шагах от нашего дома. Я мысленно отсчитывал время, необходимое Паску, чтобы добежать до станции. Последние секунды мне показались бесконечно длинными. Вдруг в ночи прогрохотал сильнейший взрыв. За ним последовала целая серия других взрывов. В той стороне, где находилась станция, прорезая темноту, взвилось несколько языков пламени. Земля задрожала так, что наш дом закачался, воздух ревел от многих тысяч рвущихся снарядов… Узкий двор, между рядом лачуг, быстро заполнился людьми. Они выскакивали со своими пожитками в руках и бежали в бомбоубежище.
— Стойте, стойте, это не бомбежка! — крикнул какой-то мужчина, глядя в сторону пожара.
Я тоже вышел во двор, чтобы лучше видеть разраставшееся пламя пожара.
— Коммунисты! — тихо проговорил кто-то рядом со мной. — Опять они взорвали поезд!
* * *Вскоре Паску снова исчез на несколько дней. На этот раз он даже не явился на работу. Я уже было начал со страхом подумывать о том, что его схватили шпики. Однако на третий или на четвертый день вечером, когда я возвращался с работы все по тем же железнодорожным путям и равнодушно рассматривал железные скелеты обгоревших вагонов, меня догнал какой-то рабочий и пошел сзади.
— Паску сказал, чтобы ты уходил из дому, — вдруг прошептал он, — и возвращался к тете Фане.
Я хотел было остановиться и посмотреть на него, но он сжал мне руку и подтолкнул вперед, продолжая идти следом.
— И непременно этой же ночью! — добавил он.
Потом отошел от меня и стал пить воду у станционной водокачки. Я понял, что останавливаться не следует, и тем же спокойным шагом пошел дальше своей дорогой. В голове возник целый рой вопросов: «Зачем мне уходить? И почему именно в эту ночь? Действительно ли от Паску этот парень? Где сам Паску? Удалось ли ему скрыться?» Дойдя до станции, я на мгновение обернулся, но рабочий уже исчез.
Я вышел на улицу и прибавил шагу. Над городом угрожающе нависла темнота. Вместе с наступлением ночи рос страх перед бомбежкой. Я пробирался среди прохожих, идущих со стороны вокзала, все время натыкаясь на их чемоданы, узлы и корзины, потом вышел на нашу узенькую тихую улочку. Но не успел я войти во двор, как один из соседей, стоявший у открытого окна, остановил меня и сказал, что в комнату Паску только что вошли шпики. Я повернулся, быстро вышел на улицу, прыгнул в первый попавшийся трамвай и через час уже был у тети Фаны.
— Паску куда-то уехал, — соврал я, — а мне одному скучно.
Она не стала ни о чем расспрашивать, так как, возможно, что-то подозревала, а может быть даже все знала. Тетя Фана налила в таз воды и велела мне умыться, затем накрыла на стол и, пока я ел, постелила мне постель. Мы уснули поздно, так как она долго рассказывала мне о своих соседях. Некоторые из них, потеряв свои семьи, разбрелись по городу; большинство же продолжало ютиться в развалинах и подвалах. Вспомнила она и о собаке, о той самой серой собаке, которая ни на минуту не покидала своего места на куче мусора и все время выла.
— Ее словно околдовали, — прошептала тетя Фана задумчиво. — Никто не мог заставить ее замолчать; ее даже камнями били… А она все равно воет, скулит и только прижимается к груде кирпича… Днем она молчала, а ночью выла, да так, что наводила на нас ужас. Теперь вот уже несколько ночей, как ее не слышно — подохла. Утром ее нашли на руинах; она лежала, уткнув морду в лапы, а остекленевшие глаза были грустными-грустными…
Этот рассказ взволновал меня. Я считал себя таким же одиноким и брошенным, как и эта серая собака. И мне снова вспомнилась мать, какой я ее видел в последний раз… отец с испачканным в золе и копоти, мокрым от пота лицом, его карие бездонные глаза… Наконец я забылся тяжелым сном.
В Железнодорожные мастерские я теперь ходил один. С тех пор как были взорваны эшелоны, Паску больше не появлялся на работе. Да ему и нельзя было туда сунуться, так как шпиков на заводе стало еще больше, и они повсюду разыскивали его. Рабочие почти не работали. С утра до вечера они стояли группами возле котлов и шептались. Говорили о войне, о немцах, о коммунистах, о Красной Армии, о своей тяжелой жизни.
Я по-прежнему ночевал у тети Фаны. Однажды вечером тетя Фана, накормив меня, собралась уходить.
— Сюда должен кое-кто прийти, — сказала она, — и если я до тех пор не вернусь, пусть подождет меня.
Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за развалинами. Я подумал, что тетя Фана; вероятно, ушла выполнять какое-то поручение. Поджидая ее, я то и дело поглядывал на улицу. Среди развалин скользили одинокие молчаливые тени пешеходов. Потом улица снова надолго опустела. Через некоторое время появился человек, которого ждала тетя Фана. Он шел прямо к нашему дому. Я бросился к двери и открыл ее. Он остановился на пороге.
— Тетя Фана сказала, чтобы вы ее подождали: она скоро придет, — проговорил я.
Человек вошел и сел на кровать спиной к окну, через которое пробивался слабый свет луны; лицо его было в тени. Я закрыл дверь и остановился посреди комнаты. Молчание незнакомца показалось мне невероятно долгим. Вдруг я вздрогнул, услышав его голос:
— Давно ли она ушла, Георге?
Это был Паску.
— Давно, дядя Паску! — выпалил я, обрадованный встречей с ним.
До возвращения тети Фаны он успел расспросить меня о том, как идут дела и что новенького в Железнодорожных мастерских. Но я не осмелился в свою очередь задать ему вопрос, где он сейчас живет и что делал все это время, хотя об этом нетрудно было догадаться. Вернувшись домой, тетя Фана вытащила спрятанные за пазухой маленькие длинные пакеты. Паску разорвал одну из оберток, и в руке его оказалась пачка листовок.