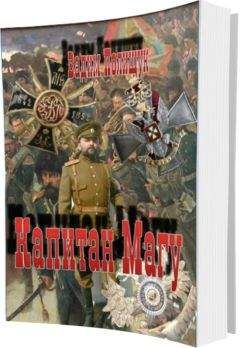Евгений Войскунский - Мир тесен
Впервые за целый месяц я спал в теплом помещении под крышей. В груди у меня клокотало. И всю ночь в моих снах мучительно стучал, стучал, стучал ушкаловский пулемет, наведенный на меня…
Утром, которое только тем и отличалось от ночи, что заявился этот шустрый лекпом с белыми бровями и прибавил огня в «летучей мыши», я лежал, обессиленный жаром. Пришел отрядный врач, молодой, с властными манерами, в тесноватом белом халате. Он сперва осмотрел раненого, чье хриплое, неровное дыхание я слышал слева от себя всю ночь, и сказал:
— Придется все-таки, Бойко, отправить тебя в госпиталь. Что, болит очень?
Он велел лекпому сделать раненому укол морфия. Потом присел на табурет возле койки чернявого, с бачками, паренька лет двадцати, лежавшего напротив меня.
— Ну что, Григорий, жалобы есть?
— Да какие жалобы, — ответил тот высоким мальчишеским голосом, — мне надо, чтоб рука работала.
У него правая, толсто забинтованная от плеча до локтя, лежала поверх тощего зеленого одеяла. Врач пощупал ему пульс и сказал:
— Потерпи две недельки, Григорий. Кость должна срастись. Потом опять сможешь стрелять.
— Две недели! — выкрикнул Григорий. — Ек-макарёк!
У моего соседа справа была забинтована голова. Из-под бинтов глядели веселые карие глаза. Он встретил врача озабоченно-ворчливой скороговоркой:
— Ой, доктор, а я как раз по маленькому хотел. Ну ничего, доктор, я потерплю. Мало ли чего нам хочется, да?
— Хватит травить, Руберовский, — сердито сказал врач. — Тебе еще влетит, Руберовский, что приказ нарушаешь. Каску не носишь. В каске осколок не снес бы пол-уха.
— Ой-ёй-ёй! — завопил Руберовский в притворном ужасе. — Мне влетит! Ой, меня доктор напугал!
Добравшись до моей койки, врач пробежал историю болезни, уже заведенную проворным лекпомом, и глянул на меня строгими глазами. Холодная ладонь легла на мой лоб.
— Сядь, — велел он. — Тельняшку сними.
Он приставлял холодную трубку к груди и спине, то дыши, то не дыши, я истомился, право. На мой пламенеющий на боку фурункул врач лишь мельком взглянул и сказал лекпому:
— Вскрыть.
А этот шустряга рад стараться. Он вообще был все время в движении, халат на нем развевался, хотя в подвале сквозняков не было. Я света белого невзвидел, когда лекпом вскрыл мне нарыв. А он, приговаривая: «Потерпи, молодец», давил, давил железными пальцами.
Насилу я отдышался. К ранке лекпом приложил тряпицу, смоченную желтой жидкостью. Потом потрогал второй фурункул, выскочивший на шее, промолвил: «Этот еще не созрел» — и, тоже приложив тряпицу с этой жидкостью — риванолом, забинтовал шею. Дал принять таблетку аспирину — и отвязался наконец от меня.
Я погрузился в дремоту, как в теплый бассейн.
Из забытья меня вытащил выкрик:
— Да не могу я две недели тут валяться!
Я открыл глаза. Григорий сидел в тельнике и трусах на койке, поддерживая здоровой рукой загипсованную. Только теперь до меня дошло, что это, наверно, Григорий Петров, знаменитый на Гангуте снайпер. Он умел сутками лежать не шевелясь за камнем, в расселине меж скал, выжидая и выманивая противника, и на первое его неосторожное движение, на колыхание ветки посылал убийственную пулю. Говорят, он не знал промаха. Григория приглашали командиры островов переднего края, которым в шхерной тесноте не давали житья финские «кукушки». Он заявлялся ночью, дотошно выспрашивал обстановку и залегал-замирал в своей каске, замаскированной сосновыми лапами. На Молнии Григорий побывал до меня, незадолго до финского десанта, и снял на «Хвосте» «кукушку», подстрелившую двух наших. Но финны тоже умели стрелять, и вот Григорий получил свою пулю. Произошло это третьего дня на Эльмхольме — Григорий внезапно чихнул, дернулся, в тот же миг пуля финского снайпера впилась ему в правую руку чуть ниже плечевого сустава.
— А ты не валяйся, Гриша, — сказал лекпом, мигая белыми ресницами. — Ты походи туда-сюда. — Он сидел посредине лазарета с газетой в руке. — Ну, слушайте дальше, молодцы. «Финское радио, — читал он, — скрывает от всего мира, что финский народ не. хочет войны, что финский народ проклинает Гитлера и его финских лакеев и что голод и разруха свирепствуют в городах и в деревнях проданной и преданной Финляндии».
— Это точно. — Григорий, пошедший по совету лекпома туда-сюда, остановился. — Я когда был на Эльмхольме, финики как раз растарахтелись. Давайте, кричат, к нам в плен, обеспечиваем сытую жизнь, четыреста грамм хлеба. Ёк-макарёк, четыреста! У нас один крикнул, что у нас кило хлеба дают, так что идите лучше к нам.
— Между прочим, — сказал лекпом, — у нас норма урезана. С первого сентября. Хлеба-то осталось кило, муки на Ханко хватает. А мясо снизили. Тридцать три грамма теперь. И сахара меньше. А масло только для госпиталя.
Руберовский, поблескивая из-под повязки плутовскими глазами, сказал:
— Я, братцы, без масла могу целую неделю выдержать. Хотите, на спор?
Он, как я уразумел, был пушкарь — из расчета единственной на Хорсене пушки-сорокапятки. Ее в отряде называли уважительно-насмешливо: «главный калибр».
— Пол-уха тебе срезали, а все травишь. — Григорий опять зашагал по лазарету, поддерживая раненую руку. — На Ханко продуктов на год, наверно, хватит.
— На год не хватит, — возразил лекпом. — Подвоза-то нету теперь. Как Таллин сдали. В госпитале, я слыхал, врачи говорили, до марта только хватит продуктов.
— А если война до марта не кончится?
— До марта кончится, — убежденно сказал Руберовский. — Зимой погоним германа обратно.
— До зимы дожить надо, — сказал лекпом. — Проснулся, Земсков? — Он стремительно подошел ко мне. — Давай на пузо повернись. Банки тебе поставлю.
Весь день я дремал и просыпался, и снова погружался в дремоту, как в теплый бассейн. Что-то ел. Меня пошатывало, когда ходил в гальюн. Вечером, когда на дворе стемнело, из лазарета вынесли на носилках Бойко — он хрипел, лицо у него было белое как бумага, и я подумал, что он не жилец. Лекпом повез его на катере в госпиталь. Слышал я сквозь дремоту, как заспорили Григорий с Руберовским о калибре снарядов финского броненосца, который по ночам обстреливал Ханко. И о том, что нужны торпедные катера, чтоб его потопить, — жаль, что дивизион торпедных катеров в самом начале войны ушел с Ханко. Стратеги, подумал я. Всюду у нас стратеги…
Под утро привезли четырех раненых с Гунхольма. Опять там был ночной бой, опять отбросили финских десантников. Двум тяжелым отрядный врач с помощью лекпома наложил шины и повязки и дал им хлебнуть спирту. Второй раз за эту ночь лекпом повез раненых на полуостров, в госпиталь. Двое других были не тяжелые, им тоже дали спирту. Похоже, спирт тут использовали как противошоковое средство. Гунхольмовцы и так были еще не остывшие после боя — возбужденно обменивались впечатлениями, а выпив спирту, и вовсе захмелели. Вдруг затянули во всю глотку: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны…» Они пели хрипло и не в лад. Врач, обрабатывавший их раны, накричал на них. Гунхольмовцы покряхтели, повздыхали, а потом разом заснули, тяжело храпя. Но вскоре один из них проснулся, застонал от боли.
Мне было стыдно лежать тут, в тепле, на койке с чистыми простынями, — лежать со своими чирьями рядом с ребятами, вышедшими из боя. И впервые явилась мысль о бегстве.
Лекпом возвратился на Хорсен вечером следующего дня (катера ходили только в темное время суток) и с ходу занялся перевязками и уколами. Мне снова поставил банки. По быстрым их хлопкам, по нервным движениям его рук я чувствовал, что лекпома распирают новости, и я чего-то забеспокоился. Может, принято решение брать Стурхольм, наши пойдут в десант, а я валяюсь тут со стекольной фабрикой на спине.
Но я не угадал: новости были совсем другие. Лекпом рассказал, что погиб летчик Антоненко. Капитан Антоненко и его ведомый лейтенант Бринько были любимцами Гангута, они сбили в ханковском небе и за пределами базы полтора десятка самолетов противника. Первыми из балтийских летчиков они стали Героями Советского Союза. И вот — «ишачок» капитана Антоненко скапотировал при посадке на аэродром.
Очень было жалко этого человека, такого нужного на Гангуте. Мы знали, как мало у нас летчиков, и восхищались их боевой работой. Видели, как они, проносясь на бреющем над шхерами, штурмовали десантные катера финнов. Знали, что травяное поле аэродрома, расчищенное в лесу, было постоянно под огнем. Стоило взреветь заведенному мотору, как начинали рваться снаряды. Кажется, целый батальон был занят тем, что засыпал воронки: еще не прекращался обстрел, а они уже бежали на поле с носилками, сыпали в дымящиеся воронки песок, трамбовали, чтоб взлетевшая «чайка» или «ишачок» могли нормально приземлиться. И тем не менее — машина Антоненко перевернулась при посадке…