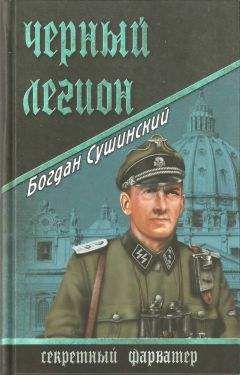Богдан Сушинский - Похищение Муссолини
— Итак, — напомнил о себе Черчилль.
— Я только вчера вечером прибыл из Италии. Я и мои люди занимались… Простите, сэр. Надеюсь, я могу говорить со всей откровенностью, не опасаясь, что что-либо из сказанного мною будет истолковано как разглашение военной и государственной тайны?
— Ну какие могут быть государственные тайны от Уинстона Черчилля? — невозмутимо проговорил премьер-министр. — На кого вы работаете, в конце концов, мистер О’Коннел?
— Я не стал бы предупреждать в такой форме, сэр, если бы не набрался дерзости связаться прямо с вами, минуя генерала.
— Пусть генерал обидится на меня. Итак, вы были в Италии. Занимались там поисками тюрьмы моего старого знакомого, Бенито Муссолини.
— Вы абсолютно правы, сэр.
— Сейчас все разведки мира только этим и занимаются на Аппенинах. Но больше всех старается секретная служ-6а СС. Фюрер бросил на поиски дуче лучшие силы. Как думаете, они упредят нас?
— У них есть конкретная цель, сэр: похитить Муссолини.
— Вот как? У нас ее нет? Что, полковник, наша разведка совершенно не ставит перед собой такой цели?
На какое-то мгновение О’Коннел опешил. Сама постановка вопроса показалась ему настолько странной, что он не сразу нашелся что ответить и вообще как вести разговор дальше.
— У меня сложилось впечатление, сэр, что мы рассчитываем на то, что по нашему требованию итальянцы передадут Муссолини нам. Или американцам. Если те окажутся понастойчивее. Сами судить его они пока не решаются.
— Это точно известно, — всем телом подался к нему Черчилль, — что не решатся?
— Такова логика событий.
— Ах, всего лишь логика событий, — не мог скрыть своего разочарования премьер-министр. — Она довольно изменчивая дама. Давайте больше полагаться на факты.
— Простите, но я считал, что решение о том, как повести себя в отношении свергнутого и плененного дуче, принимаете вы.
— Разве теперь вы в этом сомневаетесь? — окончательно выбил его из седла сэр Черчилль. Но тотчас же помог подняться с земли. — Вы хотели сообщить мне, где находится в эти дни дуче, я верно понял, полковник?
— Он находится на острове Санта-Маддалена.
— Я знаю, в какой это части света?
— У северо-восточной оконечности Сардинии. Содержится на вилле «Вебер».
— Вилла «Вебер». Остров Санта-Маддалена. Допустим. Немецкая разведка что, действительно проявляет к нему усиленный интерес?
— То, что дуче охраняют до двух сотен карабинеров и полицейских, немцев, по-видимому, не смущает.
— Судя по всему, готовится похищение.
— Думаю, они предпримут попытку освободить Муссолини, высадив десант с моря. За людьми дело не станет: на Сардинии базируется целый отряд немецких кораблей.
— Почему же Бадольо решился содержать дуче именно на этом островке под носом у немцев?
— Он часто меняет место заключения. Как только открывает для себя, что наша или немецкая разведка в очередной раз вышла на след Муссолини.
— Обо всем этом вы не посмели доложить своему генералу?
— Что вы, сэр? Конечно же доложил. Дело в другом. Четвертого дня мне удалось связаться с одним из офице-ров-карабинеров, имеющим непосредственный доступ к Муссолини. Он поведал много всяких подробностей из жизни дуче в этой комфортабельной тюрьме.
— Надеюсь, офицер не стал упоминать о неприличествующих человеку такого ранга наклонностях Бенито?
— Ни в коем случае, сэр. Ни о чем таком, кроме одной странности. Куда бы ни перебрасывали дуче, он не расстается со своим большим чемоданом. Буквально не выпускает его из рук. Сначала офицеру показалось, что дуче опасается за содержащиеся в нем драгоценности. Но выяснилось, что это не так.
Черчилль вопросительно смотрел на полковника. Хитровато прищуренные глаза его воспринимали разведчика довольно насмешливо, но без видимого осуждения.
— Что же в нем? — вопрос был не более чем дань вежливости к интересному собеседнику.
— Чемодан почти доверху набит письмами. Некоторые из них Муссолини время от времени перечитывает. Опасливо поглядывая при этом на запертую дверь.
— Вас это удивляет? Меня всегда умиляла верность, которую Муссолини хранит по отношению к своей Кларет-те Петаччи, если не ошибаюсь. Ее письма, очевидно, так же жгучи, как и ласки. Что вы хотите — итальянка!
«Неужели он действительно мог предположить, что я только для того и попросил его встретиться, чтобы рассказать о невинной слабости дуче — перечитывании писем любовницы? — с грустью подумал полковник. — Но если он мог предположить такое — почему спокоен? Почему его не возмущает незначительность информации, которую ему предоставляют? Нет, это игра. Он ждет. Догадывается, но выжидает».
— Возможно, среди прочих в чемодане есть и несколько писем любовницы, — мягко согласился О’Коннел. — Но по моей просьбе офицер сумел заглянуть в чемодан, когда Муссолини на несколько минут вышел из комнаты, оставив его незакрытым. Так вот, сэр, письма, которые ему удалось просмотреть, убеждают: в чемодане содержится корреспонденция видных политических деятелей.
— Например? — резко спросил Черчилль, взгляд его стал жестким и холодным. — Можете назвать хотя бы одно имя?
Полковник помедлил с ответом. Для него важна была формула.
— Офицер успел заметить, что письма были на английском, французском и немецком. Одно из них оказалось из Лондона. Автором его, простите, сэр, были вы. Оно лежало сверху. Перед тем как выйти из комнаты, дуче как раз перечитывал его. Или, по крайней мере, просматривал.
— Что из этого следует?
Втайне полковник надеялся, что такого вопроса не последует. Черчилль и сам в состоянии прийти к надлежащим выводам. Но, очевидно, премьер-министра интересовало, что известно разведке по сути его письма.
Можно предположить, что, попав в такое положение, в каком оказался Муссолини, крупный политический деятель не станет таскать за собой письма случайные, ничего не значащие. Понимая, что ему придется держать ответ перед международным трибуналом, — разве нельзя допустить такое? — он прихватил с собой только то, что способно хоть в какой-то степени компрометировать тех или иных политиков.
— Дуче решится на это? — как бы между прочим спросил Черчилль.
— Трудно судить о том, как он поведет себя на допросах. Но в том, что Муссолини попытается оказывать давление на некоторых государственных мужей, угрожать разоблачениями, — можно не сомневаться. Письма, документы, стенограммы… Когда человек прижат к стенке и в затылок ему смотрят дула карабинов, обвинять его в непорядочности трудно. И не имеет смысла.
28
Привести свою освободительную казачью дивизию в Питер Семенов не успел. Временное правительство, как он и предвещал, было разогнано. Возможно, поэтому атаман воспринял сие известие без особого огорчения. Реальной власти в Забайкалье правительство уже все равно не имело, а сам факт его существования только сдерживал есаула, сковывал его инициативу. И хотя под натиском красногвардейцев есаулу-атаману вскоре пришлось увести свои отряды за границу, он все же почувствовал: никакой присягой, никакими обязательствами перед существующим режимом он теперь не связан. А долго отсиживаться за кордоном не намерен был.
Семенову вдруг вспомнилась январская ночь тысяча девятьсот восемнадцатого. Не запомнил, какое это было число, но с поразительной точностью мог воспроизвести всю ночь почти по минутам. Он стоял тогда у самого кордона, в основании коридора, устроенного для его солдат китайскими пограничниками. А мимо все шли и шли эскадроны, исчезая где-то там за сопками, в окутанной ночным мраком России. Войско его представлялось неисчислимым, а земля, лежащая по ту сторону кордона, — разоренная, истомленная кошмарами большевистских порядков, — родная земля, ждала его, словно явления Христа.
Именно тогда, пропуская мимо себя казачьи эскадроны, он окончательно решил, что отныне его отряды становятся освободительной казачьей армией, а сам он дол-жен быть провозглашен вождем забайкальского казачества. Каких-нибудь двести метров составлял его последний переход, после которого он снова оказался в России. Но начинал его Семенов никому не известным есаулом, а завершал вождем казачества, атаманом. На рассвете станция Маньчжурия уже находилась в его руках. Рабочая дружина, красные отряды, советы — все было разгромлено и истреблено. Самым жесточайшим образом истреблено. Начальнику станции он лично приказал загрузить товарный вагон трупами и отправить в Читу. Семенов умышленно прибегал к такой жестокости, чтобы сразу же морально сломить красных, показать, что за все их злодеяния придется держать ответ. И кара будет страшной, как в Судный день.
Когда вагон был готов к отправке, неожиданно позвонили из Читы, из областного Совета. Какой-то служака потребовал атамана Семенова и грозно поинтересовался, что там происходит на станции.