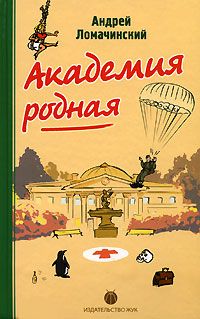Олег Смирнов - Эшелон
Сдвинул одеяло и сел в кровати. А куда, собственно, торопиться и зачем? Впереди целый день, за ним ночь, снова день… Как говорят, день да ночь — сутки прочь, а сколько у него в запасе таких суток? Несколько меньше, чем позади. Шестьдесят годов ему. С гаком. Хотя на здоровье жаловаться грех, для его почтенного возраста мирово, как нынче выражаются.
Он встал, накинул на костистые плечи стеганый залоснившийся халат, подошел к заиндевевшему понизу окну. Руки висели вдоль туловища, ноги, будто распухшие от тяжести, припечатывались к полу. За стеклом были снеговые тучи и тускловатое солнце, срывались крупные снежинки, обезлиственные ветви тополей и лип раскачивались под ветром внизу, на бульваре, и внизу же толклась, колыхалась толпа прохожих, троллейбусы и автобусы разбрызгивали снежную кашу и талую воду. А рядом, прямо перед глазами, по карнизу вышагивали голуби и голубки, клюв к клюву, ворковали.
"С чего разворковались? — подумал Григорий Петрович. — Голуби вы, голуби сизокрылые…"
— Ополоснем физиономию, позавтракаем. — Трудно переставляя ноги, Григорий Петрович направился в ванную. — Зажжем свет, достанем из стакана зубную щетку…
Он поворачивал выключатель, чистил зубы, умывался, вытирался, причесывался, надевал рубаху, и в висках у него гудело, и он знал, что из этого гудения и родится та самая сумасбродная мысль. Родится — и сработает.
Не спеша, заученно Григорий Петрович проделывает то, что он проделывает ежеутренне, — наливает из бутылки в стакан кефир, варит яйцо всмятку и кофе, намазывает на хлеб масло. От батареи и электрической плиты на кухне тепло, обезвлаженно, нагретый воздух над плиткой шевелит на веревочке выстиранное накануне нижнее белье. Самому приходится стирать, все самому.
В том числе убирать комнату, кухню, прихожую. Канительно: целая квартира. Привык. Да и время чем-то заполняешь.
Григорий Петрович жевал, пил, вполуха прислушивался к репродуктору: "Производственные успехи текстильщиков Ивановской области… Месячный план… на сто два процента… Страна получит… сверх плана… тысячи метров тканей". Последние известия кончились, запиликала скрипка. Потом мыл посуду, застилал кровать, прошелся с веником, вытер пыль. Потом достал из почтового ящичка газету, развернул. Чем заняться? Приляжем на диван, почитаем прессу. А руки и ноги между тем непослушные, в висках гудит и гудит. Словно заболел. Но он-то знает: здоров, только припадок будет. Не миновать. Что-нибудь выкинешь.
Невнимательно, с пропусками, почитав газету, он надевает ботинки с ботами, потертую шубу — велюр снаружи, лисий мех на подкладке, — шапку-ушанку с опущенными ушами, бантом завязывает на груди шарф и идет в магазин. Нужно купить колбасы, чаю, хлеба. С утра народу поменьше. Магазин — рукой подать, в соседнем доме.
Он шаркает ботами по ступенькам, в подъезде отстраняет галдящую ребятню, дворничихе говорит: "Утро доброе", с изяществом приподымает шапку. На дворе серо и сыро, с крыш свешиваются сосульки, слезятся, в скверике детсада воспитательница, краснощекая толстуха в пальто нараспашку, лепит снежную бабу, дети копошатся около воспитательницы, как цыплята около наседки, рослая суровая дворничиха в брезентовом переднике чиркает метлой, сметая снег в кучу, и по-мужски, без платочка, сморкается.
В магазине шумливо, бестолково. Покупатели грудятся у прилавков, у касс, у выхода. Сквозь толчею продираешься, как сквозь кустарник. Но Григорий Петрович опытен: сперва занимает очередь к продавцу, затем уж к кассирше, и покуда получит чек, его очередь подойдет к прилавку, потеря времени — минимум.
Перед Григорием Петровичем было четыре человека, и среди этих четырех его взгляд задержался на седом сутулом мужчине в клетчатом драповом пальто с каракулевым воротником; у мужчины был искривленный, с горбинкой нос, впалые щеки, острый кадык, баки и ямки на подбородке. Григорий Петрович отвел глаза, и вновь глянул, и едва не вздрогнул — Бальчугов Саша, до чего похож, а? Но в ту минуту, когда он решился обратиться: "Простите, вы не Бальчугов?" — к сутулому мужчине подошла такая же сутулая женщина и произнесла с недоумением:
— Коля, ты все еще стоишь? А я уже взяла сыр.
Коля? А тот — Саша. Хорошо, что не обратился, был бы конфуз. Но похож. Хотя, впрочем, не совсем, ежели разобраться.
У Бальчугова, помнится, родимое пятно на скуле, у этого нету.
К тому же Бальчугов, помнится, пониже росточком, этот долговяз.
Григорий Петрович сунул в сетку-авоську покупки и вышел из магазина. Впереди мелькнула и скрылась за углом шапка-пирожок того человека, которого он принял за Бальчугова. Подымаясь в лифте, подумал: "Жаль, что это был не Саша Бальчугов". И следом подумал: "Надо бы и сахарку подкупить, пу да ладно, не все враз, и так поистратился". А он не нарком, он пенсионер, лишних денег нету.
В прихожей он сказал себе:
— Разденемся, разуемся, выложим покупочки…
Повесил сетку на вешалку, стал снимать ушанку, шубу, развязывать шарф, облокотился о столик, чтобы стащить боты. На столике стоял телефон — черный, старый, потускневший, с трещинкой на трубке, с забахромившимся шнуром.
— А теперь посидим, дочитаем газетку…
Григорий Петрович нацепил очки, развернул полосы и увидел — будто сквозь газетный лист — телефон на столике в прихожей. Он опустил газету и воочию увидел из комнаты телефонный аппарат. Черный аппарат на палевом столике. И в следующий миг понял: он будет звонить Бальчугову. Голова гудела, руки, державшие газету, подрагивали, ноги как бы приросли к полу. Будет звонить. Для чего? Толком сам не знает. Но — позвонит, это неизбежно.
Давно он не звонил никому из своих друзей. Вернее, знакомых, потому что настоящих друзей у него, вероятно, никогда не было.
Как-то так получалось: и попадались отличные, славные люди, да накоротке сойтись с ними не мог, приобретал скорее приятелей, не друзей.
А когда кому звонил из приятелей — подзабыл. Раньше перезванивались, теперь же нет. И ему не звонят, и он не звонит. Вообще телефон по неделям безмолвствует. Разве что по ошибке оживет: "Это база? Позовите Матильду". Или: "Справочная? С какого вокзала ехать на Пензу?" И сам Григорий Петрович звонит лишь по делу: в райсобес — насчет пенсии, в магазин — есть ли сосиски, в жилконтору — кран починить или еще что.
Сейчас позвонит просто так. Привет, мол, старина, сколько лет, сколько зим, извини, мол, за беспокойство, со здоровьишком как, желаю сил, бодрости и долголетия. Удивится Бальчугов, наверно: столько молчал — и вдруг надумал звякнуть. Но с другой стороны, что же, не мог Саша набрать его номер, это запросто делается.
Следовательно, обоюдная вина.
Ступая слишком отяжеленно и грузно для своего сухощавого, костистого тела, Григорий Петрович подошел к столику, снял телефонную трубку с рычажков и, глядя в записную книжку с номерами, крутанул диск.
— Алло, — сказал он. — Это квартира Бальчуговых?
— Нет, — ответили ему, и он положил трубку.
Ошибся. Не туда попал. Наберем еще разок. И опять ему сказали, что это не квартира Бальчуговых.
— А что же?
— Квартира Тавровских. Но погодите, не вешайте трубку…
Раньше тут, до нас, жили Бальчуговы. Переехали на Плющиху.
Запишите их телефон…
Григорий Петрович отыскал карандаш, приготовился записывать и спросил:
— Давно переехали?
— Порядочно. Так слушайте…
Карандаш царапал бумагу, цифры писались вкривь и вкось.
Перебрались Бальчуговы, сменили жилье. Ладно, позвонит по новому телефону.
Ему отозвался низкий женский голос:
— Алло?
— Здравствуйте, — сказал он. — Кто это?
— Допустим, Алевтина Сергеевна.
Алевтина Сергеевна? Жена? У Саши была жена, но как ее зовут, позабыл, хоть убей. Сказал:
— А можно Александра Евгеньевича?
В трубке помолчали, и он повторил:
— Александра Евгеньевича можно?
— А кто спрашивает?
— Семенов-Верниковский. Это его старый знакомый…
— Я не смогу позвать Александра Евгеньевича и для старого знакомого.
— Почему? Он болен?
— Он умер. Позапрошлой осенью. Разрыв сердца.
— Простите, — пробормотал Григорий Петрович. — Вы жена?
— Жена.
— Простите. До свиданья.
— Прощайте.
Григорий Петрович не двигаясь сидел на пуфе у столика, вытирал платком испарину со лба. Справился о здоровье, вот так пожелал сил и бодростп. Саша Бальчугов умер. От разрыва сердца.
В позапрошлую осень.
Наверно, был листопад, дул ветер, желтые, скользкие от дождя листья сыпали с деревьев на автомашину с ало-черной материей по бортам, в машине гроб и кучка родных — нынче так хоронят, механизированно, в темпе, без лишних людей и без медлительных процессий.
Наверно, в гробу Саша лежал спокойный, смирный, а в жизни это был огонь человек. По Театру Мейерхольда его помню. Загорался спектаклем, режиссером, актерами, публикой, на сцене разве что на голове не ходил, вне сцены — бесконечные добрые деяния: что-то для кого-то просил, требовал, добивался. И за меня вечно хлопотал: роль в новой пьесе, жилье, надбавка жалованья, путевка на курорт… А то было: нету у меня сносного пальто, Саша свое отдает, попробуй не принять подарка — взрыв, вулкан, — а сам после в плащишке прозябал. Благородная, бескорыстная душа… Да, помнится, и псевдоним мне Саша сочинил, СеменовВерниковский — это благодаря ему. Был младше меня, а опекал, будто старший. И не одного меня опекал… Впоследствии разошлись по разным труппам, все дальше, дальше, так далеко, что и перезваниваться перестали, пенсионники. А два последних года Саша, если бы и захотел, не мог уже позвонить: с кладбища не позвонишь.