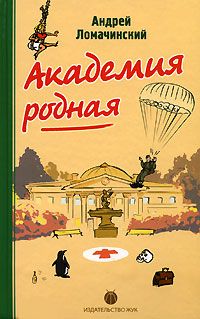Олег Смирнов - Эшелон
— На Дальний Восток, воевать с Японией.
— Об этом кое-кто догадывался.
— Не ты ли?
— Хотя бы и я. Нужно быть немножко политиком…
— Тоже мне, политик! — разозлился я.
Паровоз загудел. Я прибавил шагу. Снова воевать? А ты что думал? Покуда ты в военной форме, воевать должен, когда тебе прикажут. В любой то есть момент. Где — неважно. Но воевать ты обязан, поскольку ты человек с оружием. Четыре года не расставался с ним, с оружием…
8
ОТЕЦ
Григорий Петрович пробудился в том состоянии, которое бывает у него изредка и которое порождает нежданные, необъяснимые поступки. Он лежал под одеялом, не открывая глаз. В квартире было по-особенному тихо, потому что на столе тикали часы и на кухне капала вода из крана. За окнами же притупленный стеклами и высотой, но все-таки сильный гомон толпы, шелест шин по асфальту, голубиное воркование на карнизе.
"Ну что вы разворковались?" — подумал Григорий Петрович и ощутил, как мутная, щемящая тоска растекается от сердца по всему телу — и голова становится тяжелой, гудящей, а руки и ноги тяжелыми, непослушными.
Григорий Петрович знал, когда впервые начались эти, как он определяет их, припадки — ровно через два года после выхода на пенсию — и как они проходят: встанет, будет совершать свои обычные дела, а затем сработает какой-нибудь винтик в башке — и Григорий Петрович совершит нелогичное, ненужное.
Ну что разумного в следующем, например, поступке? Сидел он, опершись о трость, на бульварной скамье, увидел пробегавшего по аллее мальчишку, — сейчас и не припомнишь, что за мальчишка, во всяком случае, обыкновенный, рядовой пацан, какие встречаются на каждом шагу, — и вдруг представил себя на его месте: и я же был когда-то мальчишкой, — и неудержимо повлекло туда, где родился и рос. И, будьте любезны, наскоро собрал чемоданчик, купил билет, сел в поезд, прикатил на Тамбовщину.
Был сентябрь с чередой тягучих, холодных дождей, в малолюдной деревне мокли избы, в садах мокли яблони, на поле мокли галки и колхозницы, выкапывавшие картофель, — мужчин почему-то не было. Женщины в стеганках и кирзовых сапогах с недоумением смотрели на городского обличья старика, еле выдиравшего галоши из грязи, с раскрытым зонтиком. А он помесил грязь у картофельной бровки, у речки, в дубовой роще, где, по его предположениям, гонял некогда с ребятней, помесил грязь на деревенских улицах, отыскивая выселок, где некогда стояла их изба. Выселка он этого не нашел, ничего окрест не узнавал, сверстников перезабыл, и семейства его в деревне никто уже не помнил. Да и то сказать: мировая война, гражданская, голод коснулись Селивановки, сам же уехал отсель еще в девятисотом году. В Тамбов, оттуда — в Москву. Навсегда. Он вывалялся в грязище, промочил ноги, продрог, ночевал у подслеповатой вдовы-ворчуньи в затхлой комнатенке с тараканами — и сознавал: крестьянское детство с юностью столь далеки, что не взволновали, только утомился. Покидая назавтра Селивановку — с насморочным хлюпом и кашлем, — удивлялся, как это он на склоне лет сорвался в дорогу, и его повлекло назад, в Москву, домой, в обжитую квартиру. И еще месяц после этой поездки он удивлялся себе.
Или такой поступок разумен? Хлебал он на кухне супчик, краем глаза читал газету и краем уха прислушивался к радио. Газета писала что-то о велопробеге, репродуктор на стенке распирало от поставленного дикторского баритона: "Автор показывает нам… в сцене помолвки и в сцене свадьбы…" Что автор показывает, Григорий Петрович не дослушал. Боже, до чего ж ему, почтенному старику, захотелось встать в ряды свадебной церемонии и увидеть все как есть! На церковное венчание вполне можно попасть, было б желание. Желание было, ибо он припомнил: на Таганке лет тридцать назад венчался с Зосей. Здорово: он — в черной тройке, белоснежная манишка, усики кренделями, напомаженный, она — в подвенечном платье, фата, подведенные брови, бледные щеки и алый рот, вокруг шепоток: "Ахтеры женятся…" По правде, Зося была плохой актрисой и плохой женой — пуста, ветрена, — и они вскоре разошлись. Но когда венчались, было здорово: молодые, счастливые, за спиной вся труппа, и шепоток по углам: "Ахтеры женятся…" Так вот, будьте любезны: потащился на Таганку, в ту церквушку, — действует, народу тьма, и как раз венчание. Смотрел он на молодых — были они не так молоды, но черная тройка и подвенечное платье с фатой были, слушал речитатив попика с золотым крестом, более старого, чем сам Григорий Петрович, слушал стройный, неземной ангельский хор и силился вызвать чистые, добрые воспоминания, связанные с собой и Зосей, а вместо этого вспоминал, как после спектакля застукал у Зоей режиссера, как она воровала у законного мужа деньги и как прикладывалась к его же щекам туфлей: "Я гордая полячка!" Подлые, не к месту, воспоминания. И тогда подумал о хоре: "Спевшиеся ангелы", — и вышел на паперть, и уже удивлялся: что ему, безбожнику с дореволюционным стажем, в этом венчании? Ничего ему этого, в сущности, не нужно, и поездка на Таганку блажь. Понятно, это не то что на Тамбовщипу махнуть, это поближе — метро и трамваем.
Трясясь в трамвае, он стал припоминать тех, кто был после Зоей, припоминал как-то размыто, вроде все они на один лад: общительные, безалаберные, с уменьшительными, ласкательными именами — Коточка, Люси, Нинок. Милые, славные были женщины, но он думал о них спокойно, как бы по привычке. Все-таки это были жены, а еще больше было просто связей, просто девчонок, его поклонниц, он с ними расставался на второй, на третий день, не думая о возможной беременности и прочем, для того и существовали аборты, а богемная актерская жизнь не позволяла о чем-то задумываться. Эти девчонки вспоминались вовсе размыто и безо всяких имен. Парубковал лет до пятидесяти, благо отдельная однокомнатная квартира. Потом наступило возрастное, и женщины перестали его интересовать. Да…
А такой поступок? Роется он в шкафу, ищет рубаху и среди белья натыкается на альбом, — как в белье попал, шут знает. Альбом массивный, плюшевый, с позолоченной пряжкой. Отложить бы этот альбомище, убрать бы, так нет — начинает перелистывать.
Выцветшие, пожелтевшие фотографии, и на каждой он, Григорий Семенов-Берниковский, на обороте так и написано собственноручно: "Григорий Семенов-Берниковский в роли Счастливцева", "Григорий Семенов-Берниковский на банкете по случаю премьеры «Шторма», "Григорий Семенов-Берниковский в роли Шуйского" и тому подобное. Семенов — кровная фамилия, Берниковский — добавлено для звучности, по-актерски. Он всматривается в свое лицо, тугое, нестарое, знакомое — если без грима, и незнакомое — в обликах театральных персонажей, и ему мнится, что он оживает на фотографиях, хмурится и улыбается, как в жизни. Он переворачивает последний лист и решает: отправлюсь нынче в театр, в какой — все равно. Какой поближе. Вечером, подстриженный и выбритый, отстукивая тростью, он идет к театру, покупает у кассы билет с рук, садится в партере. Чуточку волнуется при виде занавеса, авансцены, рядов кресел, контролеров с программками, радужных люстр и жужжащей, пестрой публики. Но когда занавес раздвинулся и начался спектакль, он сперва растерялся, а потом рассердился. Разве так надобно играть на сцене? Где кипение классических страстей, где накал извечных чувств, где бурная музыка и яркое оформление? В его времена театр был иным! Да он сам, драматический актер Григорий Семенов-Берниковский, играл на этой же сцене, если память не изменяет, на многих московских сцепах играл. Но разве так играл? Дождавшись антракта, направляется к гардеробу. Его не хотят одевать — порядочки, мучайся до конца, — он объясняет, что нездоров, ему нехотя выдают плащ и шляпу, и он, церемонно поклонившись гардеробщику, удаляется.
Не ходил в театры и не пойдет. Мальчишки и девчонки, а не актеры. Не драматическое искусство, а нечто… нечто… Не найдя подходящего слова, пренебрежительно щелкает пальцами.
Ну, а кому сие нужно? Что осмысленного, здравого в таких поступках? Ровным счетом ничего. Просто припадки. Просто старость подчас пытается прорваться в далекую молодость, а к чему сие приводит? Да ни к чему. Старость — она старость.
Григорий Петрович лежал под ватным стеганым одеялом с пододеяльником, выложив поверху иссушенные, пергаментные руки, по-прежнему не открывая глаз, размеренно и тихо-тихо дыша. Он так дышит и во сне — не услышишь. Впрочем, слушать некому: Григорий Петрович бобыль. Уже в подъезде заголосила детвора, уже за стеной у соседей затарабанили на пианино, уже солнечный луч, пробившись сквозь тучи, слабый, зимний, переместился к кровати, чуть-чуть пригревал лицо. Сколько же времени?
Валяйся не валяйся, а подниматься надо. Не хочется: на сердце тоска, голова гудит, тело вялое, непослушное, но нужно вставать.
Сдвинул одеяло и сел в кровати. А куда, собственно, торопиться и зачем? Впереди целый день, за ним ночь, снова день… Как говорят, день да ночь — сутки прочь, а сколько у него в запасе таких суток? Несколько меньше, чем позади. Шестьдесят годов ему. С гаком. Хотя на здоровье жаловаться грех, для его почтенного возраста мирово, как нынче выражаются.