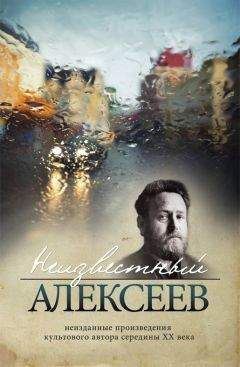Игорь Гергенрёдер - Комбинации против Хода Истории[сборник повестей]
Гостям принесли, как хозяйка назвала их, «домашние щи», в которых оказалось чересчур много капусты и совсем мало говядины, подали рубленые котлеты, открытый пирог с подозрительным фаршем.
Главное — они остались в комнате одни, никто не мешал им говорить…
Ромеев узнал из рассказа Сизорина, что Быбин погиб от ранения в живот, промучившись около суток. В бреду он поминал шурина, убитого за месяц до того, бормотал, что они в честь встречи «раздавят баночку».
Сизорин описал, как изменился Шикунов: показывал себя рьяным служакой, его произвели в прапорщики — и он стал неприступно–властным, строит из себя «военную косточку», раздобыл перчатки тонкой кожи и летом не снимает их.
Лушин, всегда носивший усы, зарос до самых глаз бородищей, всё так же
ухитряется находить выпивку, всё так же охотно, подолгу рассуждает.
Ромеев слушал с видом человека, который мучительно колеблется. Вдруг решился — стал рассказывать о себе…
Отложив служебные дела, повёл ребят на берег Оми, там давали напрокат лодки; он катался с ребятами на лодке и описывал свою жизнь…
Потом пошли в привокзальный сад, прогуливались и сидели там на скамейке, пили морс, а он всё рассказывал… Повторял, что грешник, однако есть у него одно: на эту войну он пошёл, как на библейский брачный пир и, «как и вы, великое юношество России, вошёл в брачной одежде!»
Многие же пошли на войну «не в брачной одежде», и к ним будет отнесено то, что в библейской притче сказали подобному человеку: «Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда хозяин велел связать ему руки, ноги и бросить его во тьму внешнюю».
Сизорин и его товарищ не поняли этой ссылки на Библию, даже как–то и не задумались. Пора было прощаться. Когда Ромеев ушёл, Лёнька под сильным впечатлением проговорил:
— Такой непреклонный к самому себе человек! Если б, к примеру, он иногда напивался и голый на четвереньках лаял, как собака, — я бы его всё равно уважал.
Сизорин убеждённо согласился.
— Большой человек! — с твёрдостью сказал он. — Великий человек!
18
То было в августе девятнадцатого…
А в феврале двадцатого поезд чешской контрразведки отбывал из Хабаровска на Владивосток. Позади остался Иркутск, где кончил жизнь проигравший Колчак. Эшелоны англичан, французов, чехословаков тянулись в Приморье, там держалась ещё белая власть.
Майор Котера распорядился пригласить в купе Ромеева. Капрал Маржак натащил с поезда любезных англичан запас джина, и майор, питавший симпатию к Володе, хотел обрадовать его.
Володя, впрочем, в последнее время и без того пил — правда, не английский джин, а продававшуюся на станциях китайскую самогонку. Пьяный, он, против обыкновения, часто брился: на землистом, с синевой под глазами лице багровели порезы.
Котера приветливо глядел на вошедшего:
— О-о, какой мы горки! Садись, выпей джин, он сладки, и ты перестанешь быть горки.
Ромеев медленно от старательности поклонился и чопорно (а как иначе держаться при таком виде уважающему себя человеку?) уселся напротив чеха. В то время как тот улыбчиво наполнял его стакан густовато–маслянистым пахучим напитком, Володя приглушённо, чтобы не так была заметна горячечная надежда, спросил:
— Может, ещё будет контрудар? Может, хоть Сибирь пока от них отстоим?
Офицер молчал, пододвигая ему стакан, наливая себе, сделал Маржаку знак распорядиться насчёт свиного жаркого, наконец неохотно ответил:
— Нет, дрогой, это вже конец полный.
Володя пил и, страдальчески кривя простонародное худощёкое лицо — точь–в–точь мужик, которому костоправ накладывает лубки на поломанную ногу, — жаловался: как работала контрразведка! сколько подпольных большевицких организаций было раскрыто, сколько переловлено красных! И, несмотря на всё это, — поражение…
Котера раздумывал: этот хитрый, ловкий человек притворяется? Неужели при его наблюдательности мог он не понимать того, что давно знали чехи: белые проиграют?
Майор возразил собеседнику: чешская контрразведка не потерпела поражения. Легионеры понесли очень мало потерь (потери их, главным образом, от тифа), возвращаются на родину организованно, не без удобств, и увозят в сохранности всё то, что им нужно увезти.
Володя с ехидством повторил слова чеха:
— Увозят всё то, что им нужно. — С пылом, с болью воскликнул: — Но я ведь не за то служил! Я за белую победу служил!
Котера лукаво усмехнулся:
— Про то в твоём кабачке, в Праге, рассказывать будешь, будут слушать тебе русские эмигранты.
Ромеев сидел в немом непонимании; наконец сказал:
— В каком кабачке?
Офицер, не раздражаясь на его кокетство, терпеливо ответил: в том кабачке, который он поможет Володе открыть в Праге.
— За твои тысяч десять долларов, — пояснил Котера. — Золото, камни… всё то мы в Европе обратим на доллары.
***Ромеева раздирали колебания: сдержать обиду? С губ сорвалось:
— Нет у меня.
— Говорить можешь, страхов не надо, — как мог дружелюбно увещал майор. — Семь–восемь тысяч?
— Нисколько нет! — Володю взвинтило, он стал вдохновенно доказывать, что «на эту войну пошёл по–чистому», что к его «ладони крупинки не прилипло», что «в том и виделась ему идея: чтобы среди белых оказались люди, какие
досконально по–честному, безвыгодно пошли — и заради их чистого и пошлётся победа Белой России».
— Но, — сокрушённо, почти с рыданием выдавил Володя, — видать, было мало таких людей.
Котера слушал, слушал и прервал:
— Тебе очэн много власти бывало дано! Я мой нос в твои дела не ставил! Не бойся, что теперь отнимать буду твоё. Я уважаю трофеи, я сам имею мои трофеи. — Офицер искал русские слова, чтобы доходчивее выразить: с его стороны нет и намёка на желание присвоить добычу Володи.
— Я тебе европейский чоловек! — убеждающе заявил Котера, подчёркивая, как важно право собственности и как уважаемо им.
Ромееву стало душно, в голову бросилась кровь, потянуло бить бутылки, стаканы, он остервенело закричал:
— Не такой я–а–ааа! Не бер–ру–ууу!!!
***Поезд тронулся на восток. Был морозный ветреный полдень, за окном проплывал заснеженный пригород Хабаровска, выстуженные, со сверкающими наезженными колеями улицы, застроенные домами из тёмных кондовых брёвен.
Солнце ударяло в окно щедро протопленного вагона, и бутылки с джином на столике зеленовато, мягко блестели. Маржак, по приказу майора, притащил имущество Ромеева — единственный чемодан. Володя встал посреди купе, развёл в стороны руки:
— И меня обыщите!
Котера кивнул Маржаку — тот старательно обыскал русского, потом вывалил на пол содержимое его чемодана. Ни доллара, ни колечка позолоченного не нашлось. Было лишь выданное чехами в рублях жалование за последний месяц.
Котере вспомнился русский старик, который деревянной колотушкой толок варёную картошку вместе с кожурой, залив водой, ел с удовольствием, был весел. Стоящий напротив Ромеев сейчас вот так же весел…
Нет, не так — он весел торжествующе. Его кричащая варварская гордость вдруг взбесила Котеру. Он осаживал себя, но русский продолжал смотреть с разнузданно–дерзким вызовом дикаря–повелителя (он — никакой не повелитель!). И майор приказал выбросить его из вагона.
— Все тоже монетки! — выкрикнул в ярости, матерно ругаясь по–русски и желая сказать, что велит вышвырнуть и «манатки» Ромеева.
Паровоз, сильно изношенный за время войны, тащил состав со скоростью рысящей лошади, и Володя упал в снег без вреда для себя. Неподалёку валялись его чемодан, полушубок, кроличья шапка.
Он шёл назад в Хабаровск, омертвело–жестокий, как старый убийца, которого много дней травили в лесу собаками, в кармане ощущалась полновесная тяжесть револьвера, мозг сверлило: «И велел бросить его во тьму внешнюю».
19
Минуло несколько месяцев. Иржи Котера теперь отвечал за безопасность чехословаков и сохранность их грузов во Владивостоке. Ожидая отплытия в Европу, легионеры жили в вагонах, загромождавших запасные пути станции.
Помимо чехов, город патрулировали американцы, японцы, русские белогвардейцы, но это не гарантировало от ограблений. Когда взгляд Котеры останавливался на дюжем парне–смазчике, на слесаре депо или просто на каком–нибудь оборванце, майор думал, что, вероятно, ночью он крадётся под составами, чтобы ломиком сбить пломбу с вагона, набитого собольими шкурками.
Была жаркая середина лета. После обеда Котера перешёл из вагона на устроенный перед ним помост под тентом, где стояло дорогое мягкое кресло, которое ещё недавно красовалось в богатом русском доме. Белобрысый Маржак, щуплый, бодро–юркий, точно молоденький петух, принёс кофе. Котера пригласил капрала за столик, у них были непринуждённые отношения.