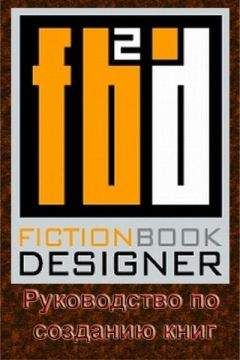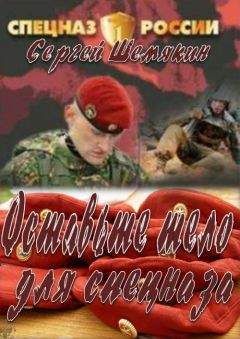Войцех Ягельский - Башни из камня
Его мир рухнул. Конец армии, жизни по уставу, по приказу. Конец мечтам о генеральских эполетах, которые достанутся теперь другим. А ему было уже сорок лет. Только сорок. Он еще был не слишком стар, чтобы перестать мечтать.
Каждый раз, когда я заговаривал с ним об армии и российских генералах, он не выдерживал и взрывался: Какие там они генералы! Стыдно смотреть на эти пропитые, небритые морды! — с презрением и горечью выкрикивал он. — А это их славянство! Эта бессмысленная болтовня, пересыпаемая ужасными ругательствами! Недоученные, невоспитанные, жадные. И это командующие? Это великая армия? Когда-то было высочайшей честью стать российским генералом. А сегодня? О чем тут говорить?!
Масхадов решил вернуться в Чечню, хоть немногое его с этой землей связывало, кроме сознания того, что он чеченец. Возвращался он в эту почти неизвестную ему Чечню еще и потому, что над ней нависла смертельная опасность. Он это чувствовал. Генерал Дудаев, которого Масхадов однажды встретил на полигоне в Тарту, провозгласил независимость Чеченской республики.
Масхадов возвращался на Кавказ с тяжелым сердцем. «Василий Иванович, — писал он в письме Завадскому, — не понимаю, что происходит. Россияне выводят армию из Чечни, но оставляют целые арсеналы на разграбление. Все разворовывается: автоматы, пушки, танки. Дудаев кричит на весь мир, что это конец оккупации, что это свобода. Но я вижу только эти горы оружия, оставленные как будто специально затем, чтобы люди сами начали убивать друг друга».
Масхадов продал удобную квартиру в Вильнюсе, отправил семью в Грозный. Хотел построить себе дом с садом в пригороде. Писал Завадскому, что, как отец, на старости лет хочет заняться землей, отрешиться от всего, что было связано с прошлой жизнью.
«Друг мой, извини, но я сомневаюсь, чтоб у тебя это получилось, — отвечал ему Завадский. — Ты создан совсем для другого. Ты — солдат».
В Вильнюсе на прощальной встрече с товарищами по оружию, последний тост выпили за то, чтобы, если им доведется служить в разных, может даже вражеских армиях, им никогда не пришлось воевать друг с 64 другом.
Война, которую все ожидали, в конце концов, грянула. И как всегда потрясла своей жестокостью и варварством. Грачев бахвалился, что ему хватит пару танков и несколько дней, чтобы раздавить чеченских бунтарей в их гнезде, Грозном. Российская атака, однако, увязла в закоулках города, вскоре превратившегося в кошмарное кладбище руин.
Накануне нового, девяносто пятого года, в разгар пьяного застолья Грачев отдал приказ, чтобы на штурм непокорного города бросили даже тыловые части. Российские полки, окруженные и выбитые до последнего солдата в городских переулках, стали кровавой гекатомбой, ненужной жертвой, брошенной на алтарь войны. Это была первая столь крупная экспедиция российской армии после неудачного нападения на Афганистан и первая битва в городе, в которую красноармейцы вступили со времен кровавого подавления венгерского восстания в Будапеште.
«С тех пор, как мы расстались в Вильнюсе, я потерял связь с Масхадовым. Знал, что его не интересует политика, но в Чечне началась война, я за него переживал, — вспоминает полковник Завадский. — Пока как-то не увидел по телевидению, как по заснеженным руинам Грозного проскальзывают чеченские партизаны, одетые в белые маскхалаты. Тогда меня осенило! Я вспомнил наши совместные походы на зимние полигоны в Литве. Аслан! — подумал я. — Это должен быть он. Наверняка, это он ими командует!»
Масхадов, укрывшись от града бомб в подвалах президентского дворца, действительно командовал обороной города. Сдал город только после двух месяцев уличных боев, когда дальнейшая оборона с точки зрения военной эффективности стала абсурдом. Он приказал своим войскам отойти в безопасные кавказские ущелья, а безлюдные руины города отдал россиянам.
Хотя он уже был тогда главнокомандующим армии чеченских партизан и широко народного ополчения, армии, ведущей войну с завоевателем, а значит, войну справедливую, Масхадов не мог избавиться от терзающих его душу сомнений. Никогда, ни до, ни после этих дней, этот почти идеальный солдат не был так близок к отказу исполнять приказ. Может показаться странным, что именно его охватили сомнения, да еще в ходе войны, то есть в наиболее неподходящий для солдата момент для раздумий, когда любое неповиновение равнозначно измене. Но Масхадов не хотел войны. И был в этом абсолютно одинок. «Дудаев обуревали эмоции, он упивался ими. Я же всегда считал, что мы не должны допускать и мысли о войне», — признался он через несколько лет. Его страшили последствия, жертвы, руины, пепелища.
«Битва за Грозный уже шла полным ходом, а я еще и тогда был готов не подчиниться Дудаеву, прервать войну. При условии, что российские генералы тоже будут готовы покончить с этим безумием, что во имя чести и чисто человеческой порядочности найдут в себе смелость сказать «нет» своему политическому руководству, — вспоминает Масхадов. — Тогда еще я верил, что нам, генералам, удастся то, на что не были способны гражданские политики. Я смотрел на российских офицеров, вспоминал их имена. Для меня они все еще были моими товарищами».
В письме, переданном Завадскому из осажденного города, Масхадов писал:
«Василий Иванович! С первого дня штурма Грозного я звонил Бабичеву, Рохлину, Куликову, Квашнину. Призывал их: давайте остановим войну. Вопреки политикам. Я был готов на все. Но российские генералы думали только об орденах, наградах, повышениях, пенсиях, служебных квартирах. А сколько раз я предлагал им перемирие! Говорил: заберите хотя бы своих убитых, одичавшие собаки начинают их пожирать. Не поверишь, дорогой друг, но Бабичев, вместо того, чтобы поблагодарить, сказал, что согласится на перемирие, если я сдамся и вывешу белый флаг над президентским дворцом. Что я ему ответил? Не стоит повторять такие слова.
Василий Иванович! Если бы ты только видел этот цыганский табор, эти жалкие армейские колонны. Один грузовик тащит на буксире два других, потому что они сломаны, или солдаты продали бензин на водку. Ничего по-настоящему не работает. А солдаты! Грязные, обросшие, стоят на постах и выпрашивают кусок хлеба. Шастают по деревням, воруют кур, гусей, ковры, прячут потом все в лесах, чтобы награбленного не отобрали сослуживцы. Ночами от страха стреляют друг в друга, дезертируют целыми взводами. Я не узнаю эту армию! Трудно поверить в этот разгул торгашества. Тут можешь достать все, что хочешь, были бы деньги. Продадут тебе танк и даже пошлют на верную смерть собственных солдат. Кроме денег российских генералов ничего не интересует.
Офицерская честь? Шутить изволите! Боже, если бы ты только видел эту армию! Помнишь? Когда наши войска отправили в Афганистан, солдаты, по крайней мере, знали, зачем они туда идут. Другое дело, правду они знали, или нет. А этих молокососов погнали в Чечню, как скотину. Даже не сказали им, куда и зачем их гонят! В теплушках, напуганных, везде балаган и хаос, тыловые колонны вместе с ударными частями, как попало. Эх, если бы ты только видел их! Как они выглядели! Не поймешь, то ли армия, то ли разбойники. Заросшие, нестриженные, одеты все по-разному. Вечно грязные и голодные. Когда-то солдат имел право и обязанность идти на смерть чистым. Перед каждым боем армия стриглась, брилась. А теперь? Достаточно посмотреть на этого Рохлина! Генерал, а сидит небритый, в каком-то растянутом свитере. И это должен быть пример для солдат?
Ведь в Афганистане солдаты каждый день получали колбасу. Мылись, сами делали себе походные бани. Невелика философия! А в Чечне армия Грачева питается помоями, а ее саму жрут вши. А ведь Чечня — это не Афганистан, тут не пустыня и не безлюдье, где трудно найти колодец. Тут есть и автомобильные, и железные дороги. Иногда мне кажется, что командование специально не кормит войска, не организует им мытье, чтобы было легче превратить их в варваров, готовых на любое преступление. Поверишь ли, Василий Иванович, они требуют им платить за каждый выданный труп, за каждого пленника?! Их полевые тюрьмы превратились в торги невольниками.
Когда эта страшная, одичавшая российская армия напала на мою страну, уничтожая все на своем пути, как ужасная мор, сам понимаешь, у меня не было другого выхода, как только с горсткой смельчаков оказать ей сопротивление. Я обязан был выполнить свой долг солдата. Я знаю, что ты меня понимаешь».
Беседы с Масхадовым были каторгой. Застарелая болезнь горла вынуждала его поминутно откашливаться, делать паузы, терять нить разговора. Он как огня избегал митингов и выступлений, они прямо-таки нагоняли на него ужас.
Говорил он с каким-то внутренним сопротивлением, неохотно, подозрительно. Невозможно было вытащить из него какой-то военный анекдот, фронтовую историю. Он предпочитал пользоваться избитыми, банальными и патетическими фразами.